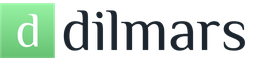Размышления о в.в.набокове. Мастер сарказма: что говорил Владимир Набоков о других писателях Критические высказывания набокова о других поэтах
Е. Иванова
Есть все основания назвать два минувших года - 1988-й и 1989-й – временем торжества Набокова, поскольку в этот период он был не просто одним из самых печатаемых авторов, прилежно вывозивших подписку ряда современных изданий, не просто предметом острых критических сшибок, но, что гораздо важнее, стало очевидно, что он является основным ориентиром для молодых и не слишком молодых прозаиков.
Начало осваивать Набокова и литературоведение, но если критики о нем спорят, то литературоведы обнаруживают скорее солидарность. Единомыслие, с которым истолковывается ими Набоков, не часто встречается у нас, и потому на него стоит обратить внимание: в оценке Набокова совпали О. Михайлов и В. Ерофеев, призванные, по негласному литературному уставу, спорить по каждому поводу до хрипоты. В данном же случае и тот и другой выдвигают одинаковый тезис: набоковское творчество лежит вне традиций русской литературы. Разумеется, при этом О. Михайлов считает, что отступничество погубило талант писателя, а В. Ерофеев - что помогло обрести величие. Кроме того, отторгнув Набокова от традиций, В. Ерофеев объявляет его создателем метаромана, и это основоположничество в его глазах полностью компенсирует отсутствие славной родословной. Но важны не столько эти выводы и оценки, важен исходный тезис: Набоков - не русская литература, это писатель нового типа. Вот это-то и кажется наиболее спорным, нуждающимся в историко-литературной коррекции и конкретизации, поскольку неясным становится, почему именно Набокова пытался провозгласить своим наследником Бунин, любовно приветствовал Вл. Ходасевич, а Н. Берберова назвала оправданием русской эмиграции. Надо осмыслить его путь в историко-литературной конкретности, попытаться отыскать «сокрытый двигатель» его творчества, а уж потом укладывать в литературоведческие коробочки.
Но, думается, начинать осмысление надо на фоне судьбы всей литературы эмиграции, существование которой протекало в уникальных условиях диаспоры, когда отрезанными от корней и основ, выброшенными в пространство оказались около 10 миллионов русских людей, вынужденных в изгнании сохранять и заново создавать свою духовную культуру.
Наше вхождение в субъективную правду литературы русской эмиграции, мне кажется, полезно начать с признания реальности: именно в суровых условиях борьбы за выживание литературная молодежь эмиграции, как-то слабо и невыразительно дебютировавшая в четвертом поколении русского модернизма - Георгий Иванов, Владимир Набоков (кстати, не пора ли в этот список включить и М. Алданова?) - обретает как бы второе рождение, переживает неожиданный взлет, то время как их сверстники, начинавшие на равных, но оставшиеся в России, так и продолжали прозябать в полной безвестности. Задумываясь над тайной этой метаморфозы, над тем, почему первые неожиданно стали последними, нам вряд ли следует искать ответ только в свободе слова, будто бы обретенной эмиграции. Во-первых, некоторая свобода возможность печататься в 20-е годы сохранялась и у тех, кто остался в СССР. Во-вторых свобода в эмиграции носила, как и везде, относительный характер, ибо групповая разрозненность была здесь не менее ожесточенной, ведь это эмиграции обязан своим рождением анекдот о том, что там, где собрались трое русских, возникает как минимум две партии. И начинающим поэтам и писателям, ограниченным в выборе русских изданий, изначально приходилось приспосабливаться и ко вкусам редакторов, и к литературным нормам и этикету, вывезенному из России вместе с молью в сундуках, и ко многому другому, что перебороть было им не по силам.
В ряду эмигрантской молодежи Набоков занимает особое место. В его судьбе это второе рождение явилось наиболее неожиданным, поскольку стихи, которые он успел издать в России, ни в коей мере этого рождения не предвещали. Какими бы смягчающими оговорками мы ни пытались обставить приговор З. Гиппиус, упавший на голову Набокова после выхода его первой книги - «он никогда писателем не будет», - мы вынуждены признать, что, не выходя за рамки известных ей стихов, она имела основания для этого суждения: тогда такие стихи могли писать слишком многие. Не менее существенной представляется и ее вторая оценка, высказанная спустя десятилетие: «Набоков - талантливый поэт, которому нечего сказать». Это как бы усложняет загадку, заданную целым поколением эмигрантской молодежи: почему самый последний стал самым первым?
Возможно, один из путей к осмыслению судьбы эмигрантской молодежи предлагает более чем странное напутствие, которое в 1916 году дал другому поэту Вл. Ходасевич: «Георгий Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только, если случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя, несчастия. Собственно, только этого и надо ему пожелать». Высказанное на самом пороге «большого и настоящего горя», это напутствие обрело пророческий характер.
Привычка держать себя в узде у Набокова настолько сильна, что порою кажется, он изнемогает под ее бременем. В его мире слишком много табу, слишком он выстроен и организован, что сообщает ему некую даже неестественность. Все, что нам удается узнать во взглядах, привычках, пристрастиях и чувствах, всегда выуживается с трудом из каких-то додаточных предложений, собирается по крохам - все самое заветное заткано плотностью недомолвок.
О чем никогда не писал Набоков? Об унизительной бедности, в которую свалился из роскошного особняка, поныне не потерявшего своего великолепия, о том, что в этой же нищете он вынужден был созерцать собственную мать, едва ли не единственную наследницу миллионных состояний. Набоков, описавший всех предков со стороны отца до седьмого колена, но полусловом не упомянул эту самую купеческую рукавишниковскую родню, деньги которой обеспечивали его золотое детство, всю ту роскошь, в которой он был взращен; и хотя материал можно было найти, купцы были не из последних, писатель как-то не спешил тревожить тени этих своих предков. Почему-то он делал вид, что не может вспомнить имя брата, ни словом не обмолвился о своей сестре Елизавете, которую содержал в эмиграции. Таких примеров можно привести очень много. Набоков всегда куда больше скрывает, чем рассказывает. Честь изобретения этой игры принадлежала не ему, еще Андрей Белый писал: «Так - всякий роман: игра в прятки с читателем он». Но Набокову принадлежит честь усовершенствования этой игры, в которой он достиг такой виртуозности, что в конце жизни стал писателем-невидимкой. Помогли ему изощряться, думается, во многом подсказки самой природы, и не зря он уделил столько внимания и потратил столько сил, изучая загадки мимикрии в энтомологии: эти уроки имели практический литературный смысл, помогая отыскивать способы защиты от любопытных, но ленивых читателей. Набоков требует внимания: смысл часто оказывается не там, куда автор увлекает доверчивого простофилю. Вот вроде бы из отдельных штрихов складывается облик дяди писателя, сделавшего его своим наследником, вроде бы про него рассказано все важное; но далеко не сразу открывается разгадка той ярости, в которую приходит отец Набокова, видя своего сына на коленях у дядюшки, мирно «ласкающего милого ребенка»: очевидно, у дяди были гомосексуальные наклонности, и в этом причина некоторых странностей его судьбы, вроде завещанного безвестному итальянцу имения. Пример из другой области: в романе «Другие берега» есть таблица цветовых ощущений Набокова от букв алфавита. Затем по поводу вымышленного имени героини воспоминаний Тамары вскользь говорится, что это имя окрашено в цветочные тона ее настоящего имени. Это как бы шарада в романе, разгадав которую можно найти и настоящее имя первой любви писателя - вероятно, Варвара? Или роман «Защита Лужина», развивающий два плана повествования, на первом из которых рассказ о жизни гениального шахматиста, создателя защиты Лужина, построенный как антитеза тем романам о гениальных и примерных детях, которые пишет отец героя. Но за этим рассказом развивается как бы шахматная партия, построенная как защита героя, Лужина, от наступления черных фигур, остановить которое пытаются сначала король-отец, а затем королева-жена. Оба эти плана намечает заглавие, Набоков прекрасно чувствовал двойственность русского родительного падежа.
Одно как бы запрещено самими правилами игры: принимать романы Набокова с полным простодушием, как приучила нас русская литература - при игре в прятки отношения между партнерами должны быть иными.
Пожалуй, была лишь одна тема, касаясь которой писатель позволял себе открыть нечто из подлинного строя своих чувств: семья. На фоне разверзнувшейся пустоты, какой была на первых порах жизнь в эмиграции, семья стала своеобразной «малой родиной», в пределах которой воскресало нечто из утраченной жизни. В семью Набоков поверил сразу и навсегда, отсюда проистекает та страстная ее поэтизация, почти исступленное описание отцовских восторгов, гимны и оды жене, довольно неожиданные у писателя с холодноватым и сдержанным темпераментом, каким обычно видится Набоков.
Пообвыкнув таким образом в художественном мире Набокова, нащупав в нем некоторые ориентиры, необходимо перейти к объяснению ключевого события его биографии, имевшего едва ли не символический смысл, - знаменитой сцены с Буниным, ставшей главным аргументом для доказательства «нерусскости» Набокова-писателя. Прославленный лауреат Нобелевской премии, патриарх и классик «русской литературы в изгнании» решился по собственной инициативе осуществить некий ритуальный и повторявшийся в русской литературе жест: передать эстафету тому, кого считал наиболее талантливым (кстати, и наиболее похожим на себя, о чем не место здесь распространяться) среди пишущей эмигрантской молодежи. Едва ли не впервые в жизни сдержанный и суховатый Бунин подвигнул себя на жест вполне театральный: «старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Так вот Набоков круто изменил традиционное течение сюжета, и Бунин был немало озадачен более чем холодным приемом, на который натолкнулся этот, по его расчетам, царский подарок. Тот, которого он мыслил в роли наследника, не только не поблагодарил за наследство, не только не бежал от смущения под сень царскосельских лип, но выслушал излияния со сдержанной улыбкой, даже не глянув в сторону заветов, которые ему предлагалось приумножать. Набоков не без гордости отметил в этой связи, что Бунин «был раздражен моим отказом распахнут душу».
Но поведение Набокова ничего не имело общего с тем ставрогинством, которое ему приписывают поклонники Бунина. Набоков очень любил открывать повторяющиеся темы в судьбе, так же как любил наделять этими повторами своих героев. И любил он их не напрасно: в его судьбе повторы приобретали последовательно символический смысл. Дело в том, что на пороге своего шестнадцатилетия он уже был однажды объявлен наследник миллионного состояния дяди, о чем, вероятно, ему не однажды приходилось вспоминать, проживая последние пфенниги в нищенских меблирашках Берлина. Не мог он не задуматься о разнице, которая существовала между ним, которому дядя завещал все, и тем безвестным итальянцем, которому дядя завещал только одно свое итальянское имение. С наследством у Набокова были особые счеты: по опыту он знал, что тот, кто тебе его передает, не всегда трезво оценивает возможности такой передачи. Он был едва ли не из первых в эмиграции, кто понял, что за ними никто не идет, они вполне последние, это эволюционный тупик. И если Бунину было поздно отрываться от этой цепи, то Набоков лелеял мечту освободиться из родовых пут и идей, вести вполне обособленное существование, отвечая только за себя:
Что никто нам не поможет
И не надо помогать, -
эту истину он мог констатировать вслед за Георгием Ивановым. Родина, заветы отцов, традиции - все это исчезало, уходило в песок, и эти слова только по инерции повторялись теми, кто уже не мог обойтись без них. От Родины они были отторгнуты навсегда, заветы отцов уже сыграли с ними жестокую шутку, и традиции никакой быть не могло, они последние в цепи.
Хорошо, что никого,
Хорошо, что ничего,
Так черно и так мертво,
Что чернее быть не может
И мертвее не бывать...
Понимая эту психологическую подоплеку, нельзя не признать, что нигилизм, за который так любят распекать Набокова, был совсем не беспочвенным и безосновным, и точно так же, как и нигилизм Г. Иванова, обнаруживает мало сходства с нигилизмом Ставрогина, свободно выбирающего между добром и злом. Набоков и Г. Иванов выбирали между иллюзией и реальностью и, отдавая предпочтение последней, имели мужество признать, что кругом никого и ничего и им, как в первый день творения, надо или созидать свой мир заново (путь Набокова), или зависнуть в черной дыре (выбор Г. Иванова). Так что с наследством и «ставрогинством» Набокова дело обстояло куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Этого наследства было слишком даже много в нем самом, и отделаться от него было куда труднее, чем сразить холод стареющего Бунина.
«Писатель - растение многолетнее», - эту блоковскую мысль мы должны приложить к тем, кого революционный циклон вольно или невольно, но унес за пределы России. Для них, хоть и в разной степени, это означало подрыв корней, которые надо было укрепить на новом месте. И тут многие из них - а Набоков едва ли не первый - обнаружили, насколько разветвленной и прочной была та корневой системы, которая навсегда оказалась отрезанной. Набоков, увезенный с России сравнительно молодым, наблюдал это в изрядной долей изумления.
С родиной связывали его прежде всего советы отцов, а отец Набокова всей своей сутью намечал вполне определенный путь, по отношению к которому сыну было необходимо самоопределяться. Не нужно быть фрейдистом, которых буквально изничтожал беспощадными насмешками писатель, чтобы нащупать в его судьбе комплекс сыновьих чувств, раннее содержание которого не во всем совпадает с внешними проявлениями.
На поверхности отношения отца и сына глядят почти идиллически: куда девается холодноватая усмешка, стоит заговорить об отце! Останься Набоков в России, он до конца своих дней оставался бы сыном, даже в том, к чему были достаточно невыразительные предпосылки. Отец до такой степени во всем шел ребенку навстречу, что эта любовь растворяла, топила, гасила личность сына и его увлечения - шахматы, бабочки, теннис не только разделялись, но исходили от отца, новый сборник стихов (Набоков В. «Унион», 1916) был издан в той же типографии и на той же роскошной бумаге, что книга отца (Набоков В. Д. Из воюющей Англии. Путевые очерки. Пг., «Унион»), и наверняка оплачивался по общему счету. О том, как кто-то пытался из подобострастия к отцу отметить выход стихов сына восторженной рецензией, Набоков написал сам, и эта рецензия была отцом перехвачена, это не мешало сборнику выглядеть в глазах публики прихотью барчука, рядом с книгами молодых начинающих поэтов, выпускаемых в свет на последние деньги.
Именно эмиграция помогла Набокову-с встать вровень с отцом в семейном тандеме. Главное изменение заключалось в том, что отец стал просто поддерживать.
Можно привести другие примеры, подтверждающие, что Набоков-писатель был не только сыном своего отца, сколько «потрясателем основ». Некоторые беглые замечания, оброненные как бы вскользь, попадают прямо в отца, хотя в него и не направлены. Чего стоит хотя бы одна ироническая обмолвка о людях, «примыкающих к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться», или ганнибалова клятва не посещать никаких собраний. Вряд ли можно найти более яркий пример энергичного растворения, чем то, которое совершал его отец в недрах кадетской партии!
Эти же самые начала любви-ненависти, но как бы поменявшиеся местами, поскольку на поверхности будет как раз ненависть, а на глубине - любовь, мы находим и в отношениях Набокова к тому, что на метафорическом языке русской поэзии называется Родина-мать. Но в этой связи нужно сделать оговорки, имеющие принципиальное значение для изучения литературы эмиграции в целом.
Коль скоро речь заходит о ней, мы как бы умышленно не хотим распознавать родовые для русской литературы черты, которые всегда определяли ее своеобразие. Методология, которой мы так дорожим, словно бы улетучивается, и начинается скучное заполнение анкеты: что и как писатель говорил о нашей стране. На основании результатов этого опроса мы пытаемся сделать вывод о степени его патриотизма или об отсутствии оного. Но пора признать совершенно очевидный факт: понятие «СССР» для самих этих писателей не имело ничего общего с тем, что они понимали под словом «Родина», которую они потеряли именно потому, что на ее месте возник СССР.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...» - смысл этого лермонтовского признания мы истолковываем с легкостью, охотно извиняя поэту некоторые поношения и в адрес «славы, купленной кровью», и заветных преданий «темной старины». Но вот стоит писателю-эмигранту высказаться с неодобрением о стране, помешавшей ему жить там, где он родился, отнявшей у него кров, разрушившей семейный очаг, как тут уже никаких скидок, никакого права на «странную любовь».
Вот ведь даже самый пристрастный суд не может не заметить, что лучшие стихи о России, достойные стать в один ряд со стихами крупнейших поэтов XIX века, были написаны именно эмигрантами Г. Ивановым и В. Набоковым. Может быть, любовь Набокова потому оказалась самой неистовой, что он более всех пытался ее скрыть, и там, где она все-таки вырывалась, оказывалась подобной гейзеру. Внимательный читатель Набокова поймет, что мысль о России в его раннем творчестве, до отъезда за океан, носит почти маниакальный характер, тем более мучительный, что эту манию Набоков таит. И если мы возьмем на себя труд сравнить «странную любовь» Лермонтова с тем тягостным и безнадежным чувством, которое, как тайный горб, носил Набоков, мы просто обязаны будем признать преимущества положения, в котором находился наш признанный классик: как любовь, так и ненависть к Родине сочетались в судьбе Лермонтова с главным - с возможностью в ней жить. В судьбе же Набокова страсть эта стала обнаруживать свои первые симптомы и развиваться именно тогда, когда он был отделен от Родины глухой стеной, она была изначально бесперспективна, потому что жить в той стране, которая возникла на месте России после Октябрьской революции, было для него столь же невозможно, как переселиться на Луну. Среди эмигрантов Набоков осознал это один из первых и потому предпочел с самого начала оставаться горбуном тайным, маскировать причину своих мук, чтобы спасти себя бесполезного единения в отчаянии, или, что для него было едва ли не страшное, сочувствия. Но вряд ли кому-нибудь удалось ярче выразить суть того кошмара, которым стала для него в эмиграции ностальгия:
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, - мой язык.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,-
поздно, поздно! - никто не ответит,
и душа никому не простит.
Может быть, это не самые гениальные стихи, но наверняка это самые отчаянные слова, обращенные к Родине, преследующей своей сына подобно слепой эринии.
Мучительность наказания, выпавшего на долю ничем лично не успевшего перед Родиной провиниться юноши, увезенного не по собственной воле, была тем более неожиданной, что в традициях людей его круга прочно укоренилась привычка мыслить эту Родину не иначе как именно в образе некой «свиньи-матушки», относиться к ней как к незадачливой попивающей нянечке. И неожиданно вспыхнувшая в барчуке страсть к этой безвозвратно утраченной свинье-матушке потребовала для своего истребления половину писательской жизни.
Да, нянечка приготовила взлелеянным ею деткам совсем недобрый сюрприз, точное имя которому нашел Блок: возмездие. В этом слове заключена та же мысль о палке о двух концах, которую Тютчев почувствовал в судьбе декабристов: «Вас развратило Самовластье, //И меч его вас поразил...» Иначе как возмездием за грехи отцов нельзя назвать испытания, которые вынесло на своих плечах поколение, сорванное с привычных рельсов. Но особая парадоксальность судьбы Набокова заключается еще и в том, что расплатиться едва ли не горше всех пришлось барчуку, вокруг которого с детства был воздвигнут искусственный эдем в английском вкусе, умышленно заслоненный от всего русского, начиная с лондонского дегтярного мыла и кончая речью: и он, и брат прежде научились писать по-английски, только затем уже по-русски.
Конечно, по-своему любил Родину и отец Набокова, но это была очень распространенная в его кругу любовь к недо-Европе, заставлявшая волевого и деятельного отца изо всех сил тщиться превратить Россию в эту Европу.
В том-то и заключается главный парадокс судьбы Набокова-сына: ему, воспитанному в семье англомана, пришлось страдать от самой вульгарной и распространенной в эмигрантской среде ностальгии.
Стержень творчества Набокова до отъезда за океан составляет изживание ностальгии, пути которому писатель подведет в книге «Другие берега». Исход мукам географического патриотизма Набоков нашел в романах, где им щедро наделены герои - и жена Лужина, и многие, едва ли не все русские персонажи.
Мысль о России не оставляла его нигде: «все у номере провинциальной немецкой гостиницы, - и даже вид в окне, - было как-то смутно и уродливо схоже с чем-то уже виденным в России давным-давно...» Это уже из романа с выразительным названием «Отчаяние», и подобие высказывания помогают оценить поистине титанические усилия по самообузданию, по выдавливанию из себя этого чувства. Его обособленность в эмиграции едва ли носила случайный характер - он не мог не сознавать, что сообщающихся сосудов способен оказать ему плохую услугу. Логика развития этой нервозной темы дает все основания видеть в казни, совершаемой с кукольными китайскими церемониями на страницах романа «Приращение на казнь», некую аллегорию, ключ к которой есть в романе «Другие берега». Подсказкой для разгадки может послужить пассаж в «призрачных» иностранцах, «в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать». В описании малогостеприимных хозяев, давших приют русской эмиграции, есть очевидный ключ: «Туземцы эти были, как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой». Аллегорическая казнь в себе непрозрачного человека не случайно совершается Набоковым накануне отплытия за океан: он явно решил не тешить больше гордыню и слиться с туземцами. Это был последний акт истребления ностальгии, обставленный подобающими церемониями.
Ко времени написания этой книги (1946) писатель успел совершить вторую эмиграцию, удалившись не только от России, но и от Европы за океан. В этой книге он впервые не побоялся выставить ранее таимый горб напоказ и рассказать, хотя бы и в прошедшем времени, о пережитых им муках. «Под бременем этой любви, - вспоминал Набоков в романе «Другие берега», - я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств.... и мучила мысль о том, сколько я пропустил в России». Набоков редко позволял себе такие излияния, даже и в прошедшем времени, - гордыня, один из семи смертных грехов, не просто властвовала над ним, а как бы составляла стержень личности. Признание не случайно вылетело из уст писателя тогда, когда сам он втайне сознавал, что справился с этим чувством, научился обходиться его эрзацами, о чем позволяют судить другие его высказывания: «...дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда вся душа перевертывается. Каково было бы в самом деле увидать опять Выру и Рождествено, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю: вот, съезжу туда с подложным паспортом, под фамилией Никербокер. Это можно бы сделать. Но вряд ли когда-либо сделаю это. Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту».
Только понимая, что главной задачей доамериканского Набокова было истребление всего, что связывало его с Россией, можно понять, почему он в первый период творчества, озабоченный консервированием своего русского языка, в американский период столь же решительно от него отказывается, став писателем принципиально двуязычным. Вероятно, к смене «орудия труда» подталкивало прежде всего сознание, что чем большего он достигал в консервации своего русского, тем больше этот язык мертвел и утрачивал свежесть и аромат, как утрачивают его любые, самые идеальные консервы. А может быть, причину следует искать в том, что за океаном Набоков ощутил, что язык является последним соединительным стержнем не только между ним и Родиной, но и между ним и русской эмиграцией.
Эта дальновидность помогла ему и первому задуматься над тем, что эмигрантский русский безмерно сужает его читательскую аудиторию, о расширении которой за счет советского читателя не мог тогда и помышлять, поскольку, как и вся эмиграция, считал, что коренным населением России стали какие-то неведомые люди с песьими головами.
Все, что мы до сих пор пытались выделить в писательской судьбе Набокова, достаточно выразительно свидетельствует о том, что его писательский дар взрастал и мужал в условиях, ничем не похожих на те, в которых традиционно взрастали русские писатели. Себя он изначально обрек на решение качественно иных задач: вырваться из традиции, из той цепи, последним замыкающим звеном которой он себя почувствовал. И наряду с тоской по родине, с языком он истреблял в своем писательском облике все родовые черты. Для того чтобы подчинить свой дар созданию того «сложного и бесполезного», что он поставил перед собой как идеал искусства, надо было прежде всего отделиться от всего, чему учила его русская литература, поскольку даже самый завзятый из модернистов в ней неизбежно оказывался нагруженным какими бы то ни.было, пусть даже отрицательными, но идейными ценностями. Но в новом устремлении Набокова, в этом избранном для себя новом пути был не столько горделивый вызов и противопоставление, сколько попытка незаметно скрыться и улизнуть от непосильного в его условиях бремени.
Рубежом, за которым Набокову удается оторваться от оков традиции, стал роман «Лолита», кстати, первый в его творчестве роман, где нет русских ассоциаций. Именно здесь писатель вступает на путь создания «сложного и бесполезного» искусства, не отражающего реальность, а самостоятельно ее создающего, не нагруженного сверхценными идеями. Но даже и здесь, отрывая себя от традиции, Набоков не столько уходит от нее вовсе, сколько подвергает качественному переосмыслению. Историко-литературные работы Набокова о русских писателях рассказывают нам о том, как совершалось перекраивание и перелицовка наследства, доставшегося ему от русских классиков. Эти исследования вводят не столько в русскую литературу, сколько в творческую лабораторию Набокова, где он пропускает классику через реторты, развинчивает и разбирает до такого состояния, что становится возможным пускать отдельные детали по иному назначению, для подпитки собственной «чарующей виртуозности».
Но истинная гениальность Набокова как создателя «Лолиты» проявилась все-таки не в том, что он нашел эти источники постоянного стимулирования писательского мастерства, но в том, что он первый догадался соединить отточенное мастерство с рафинированной, но все же «клубничкой». У Набокова не было иллюзий относительно того, кто первый способен на такой сюжет клюнуть. Вспомним, где и как впервые проигрывается сюжет «Лолиты»: его излагает на страницах «Дара» «бравурный российский пошляк» отчим Зины Мерц Борис Иванович Щеголев (не пародия ли это на нашего известного историка?). «Эх, кабы у меня было времечко, - говорит он писателю Годунову-Чердынцеву, - я бы такой роман накатал... Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, - но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, - знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, - знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, - и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. И вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать - соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем, просчет. Время бежит - летит, он стареет, она расцветает, - и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем в некотором царстве, в некотором самоварстве, во время царя Гороха. Каково?». Примечательно, что этот сюжет Набоков использует в «Лолите» до мельчайших подробностей. Лишь в одном отойдет от него: если для Щеголева важно именно то, что он «из настоящей жизни», то Набоков очистит сюжет в первую очередь от всего, что может внести именно настоящей жизни - действу «Лолиты» протекает как бы на фоне сменяющихся декораций, да и сама героиня на страницах романа подобна марионетке, которая служит точкой приложения чувств героя.
«Лолита» сыграла в истории масскульта важную роль недосягаемого образца, редко кто из рядовых тружеников на ниве этого искусства имел литературную родословную, какая была за плечами Набокова. Рафинированная сфабрикованность этого романа до сих пор остается непревзойденной, она может служить прекрасным образом американской массовой индустрии, которой принадлежит гегемония на мировом рынке. В этой индустрии все рассчитано на то, что ее изделия всем впору, касается ли это джинсов или рок-музыки. В «Лолите» есть как бы настоящее золотое сечение массовой культуры: профессиональное совершенство, умение лавировать между порнографией и почти целомудрием, умение насадить «живца» так, что его проглотит и почтенный отец семейства, и человек с расстроенным сексуальным воображением, и сноб, и всем им при этом будет не стыдно признаться, какую книгу она держат в руках.
Спорным остается вопрос, считать ли «Лолиту» первым законченным образцом «сложного и бесполезного», или это хотя и сложное, но полезное, даже в чем-то прагматическое искусство. Бесспорно, что в судьбе Набокова книга играет роль сияющей вершины, отсветы которой падают на все остальные произведения. Это тот фокус, пройдя через который традиции русской литературы нераспознаваемы, настолько они препарированы. В эту толпу Набоков продолжал ронять и дальше свои «сложные и бесполезные» шедевры, убежденный, что теперь читатель у него на крючке из уважения к мастеру проглотит все, что ему предложат. Сам же имидж Набокова-писателя, осуществившего мечту Ставрогина и переселившегося в кантон Ури, будет неизменно демонстрировать полное презрение ко всему, чему поклоняется толпа.
Как бы ни оценивать этот новый путь, выданный Набоковым, нельзя не видеть, что за им стоит правота писательского самоопределения в условиях насильственного отрыва от почвы. Вряд ли стоит сожалеть и об убитом им в себе русском писателе, едва ли эти возможности не исчерпал он полностью, а вот в модернизме он стал своего рода гением и основоположником, но таким основоположником, за которым кто бы ни пошел, скорее теряет себя, чем находит. Право на авангард в его судьбе освящено и его беспочвенностью в новом мире, и его двуязыкостью. Набоков этого потребителя обыграл, потому что был умнее и смышленее. Эта победа и стала рождением американского Набокова, о котором написано уже столько книг и которого не одно поколение комментаторов будет разгадывать и объяснять, как новый талмуд XX века.
Заканчивая статью о нем, нельзя не упомянуть и о том, как сумел этот американский Набоков отомстить высокомерно третировавшей его советской литературе, которая присвоила себе и Родину и традицию в полную собственность. Набокову удалось увести за собой многих из тех, на кого стареющая литература социалистического реализма рассчитывала как на наследников и продолжателей. Набоков, Набоков и еще раз Набоков является для многих молодых писателей сегодня путеводным маяком. Почему - Бог весть, но нельзя не вспомнить в этой связи, что «юность - это возмездие».
Ключевые слова: Владимир Набоков,критика на творчество Владимира Набокова,критика на произведения Владимира Набокова,анализ произведений Владимира Набокова,скачать критику,скачать анализ,скачать бесплатно,русская литература 20 в.,русские писатели-эмигранты
Во время горбачёвской Перестройки и последовавшего за ней президентства Б.Н.Ельцына отечественные читатели впервые получили свободный доступ к зарубежной русскоязычной литературе. В эти годы на постсоветском пространстве большими тиражами были изданы произведения Владимира Владимировича Набокова (1899-1977). В обстоятельных монографиях и в многочисленных статьях о Набокове говорили как о гении русской и американской литературы.
Творческое наследие Набокова, написанное на русском и с 1940 года на английском языках, очень велико. Оно включает поэзию, драматургию, прозу (романы, повести, автобиографические произведения), статьи (в том числе о системе ударений-просодии в русском стихе, о найденных им редких экземплярах бабочек), лекции по русской литературе и филологии, шахматные этюды и задачи. Почитателей Набокова поражает творческая многогранность, большая эрудиция, мастерское изложение психологии персонажей, восхитительные описания природы, трепетная передача ностальгического чувства, рациональное и органичное построение произведений. Во многих отзывах о творчестве Набокова отмечено ощущение соприкосновения с ярким талантом, с мощным интеллектом, с интересным большим мастером художественной литературы.
Встречаются и критические отзывы. Запомнилось эссе Э.В.Лимонова: „Читать (книги Набокова – Т.Ф.) тяжело. Временами в них присутствуют искры гениальности, но они подавлены потухшей золой... Обычные эмигрантские романы... (“Священные монстры“. М. Изд.“Аd Margineum“. 2000; с.61). Признаюсь, Набоков и у меня „не пошёл“. Что-то мешало безоговорочно принять его творчество. Перечитал доступные издания Набокова, но чувство отторжения стало более отчётливым. Тогда, выдержав длительную паузу, с карандашом в руке снова начал читать книги Набокова, специально выбирая те, которые были им написаны по-русски или им же переведены на русский язык. И постепенно смог определиться в своём неоднозначном восприятии его творчества.
Литератор бывает востребован, если его творчество ярко и глубоко освещает проблемы и потребности своего времени, даёт новое, поражающее воображение истолкование давним событиям или проницательно предвосхищает будущее. Литератор, выражающий идеи, до тех пор неуловимо или смутно и неопределённо дремавшие в глубинах общественного сознания, становится светочем, выразителем духовности народа. Тогда его провозглашают гением. Выступая в 2000 году на 67-м Конгрессе ПЕН-клуба в Москве, немецкий писатель лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс, подчеркнул, что значение литератора неразрывно связано с его гражданской позицией. Нередко писатель, подчиняясь творческому импульсу, вступает в конфронтацию с общепринятой или официальной точкой зрения или подобно Дж.Оруэлу опережает свою эпоху.
Первая мировая и Гражданская войны разрушили устоявшийся уклад и изменили жизнь России. Они же оказались судьбоносными и для клана Набоковых. Отец писателя Владимир Дмитриевич (которого В.В.Набоков, если верить „Другим берегам“ и „Дару“, восторженно любил и считал образцом для подражания) безоговорочно противостоял красным, войдя в Крымское правительство Врангеля. Он погиб в 1923 году, закрыв своим телом от пуль террористов одного из видных деятелей русской белой эмиграции П.Н.Милюкова. Его двоюродный брат и близкий друг детских лет Юрий Рауш фон Таубенберг в 1920 году пал в бою, отважно бросившись на пулемёт красных. Но В.Набоков-младший, юноша призывного возраста, хороший наездник, стрелок и пловец, умеющий фехтовать и боксировать, предпочёл не участвовать в борьбе белых и красных.
Категорически не принадлежа к сторонникам Белого движения, я не могу понять ту сдержанность, ту поразительную отстранённость, с какой Набоков не только не пытался внести свою лепту в события, потрясшие отечество, но даже как бы не пожелал их заметить. В этом можно заподозрить нечто двусмысленное и недостойное. Кое-кто из биографов объясняет поведение Набокова предвидением своего блестящего будущего. Это объяснение лишено основания. Первые стихи Набокова были беспощадно раскритикованы именитыми литераторами-современниками, причём педагог В.В.Гиппиус (кузен поэтессы З.Н.Гиппиус) без обиняков посоветовал юному автору искать себе нелитературное поприще.
„Аполитичность Набокова вызывала удивление“ – замечает Стейси Шифф („Миссис Владимир Набоков Вера“. М. Изд. „Независимая газета“. 2002; с.104). Удивительным образом эпохальные события века, величайшее бедствие страны, даже трагедия своего класса, по существу, не отразились в его русскоязычном творчестве. Ну разве что небольшая повесть „Подвиг“. Её герой, комплексовавший по поводу незначительности своей персоны в сравнении с воевавшими в Гражданскую войну офицерами Белой армии, намерен самоутвердиться. Для демонстрации своей храбрости он решил на один день (туда-сюда) с риском для жизни нелегально перейти границу Советской России... и пропал без вести.
„Я никогда, никогда, никогда не буду писать романы, которые решают современные проблемы или отображают общественный интерес“ – писал В.В.Набоков своему нью-йоркскому литературному агенту А. де Джоннели в 1938 г. Не проникся Набоков и сочувствием к перманентно тяжёлому положению русского эмигрантского сообщества, описывая, в сущности, свои индивидуальные проблемы. Его герои существуют вне времени. События его романов могли бы происходить и до мировых войн, и в промежутке между ними, и в послевоенное время.
Какие впечатления вынес он из первого двадцатилетия эмиграции? „Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишённую приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах, нам, изгнанникам, доводилось физически существовать...“ („Другие берега“). Но именно в эти годы Германия пережила неудавшуюся революцию 1918-1919 гг. и послевоенную разруху с небывалой инфляцией и повальной безработицей, фашистский путч 1923 г., кризис 1929-1933 гг. и приход Гитлера к власти, антиеврейские законы и акции (а жена Набокова еврейка!), и заключительный аккорд этого периода – „Хрустальную ночь“ с 9 на 10 ноября 1938 года. В творчестве Набокова не нашли отражения события Второй мировой войны, если не считать написанного по-английски короткого с безликой концовкой рассказа „Образчик разговора, 1945“ по поводу прогерманских настроений эмигрантских кругов в США.
А.Сёмочкин отмечает глубокий психологизм набоковских романов, глубинный пласт которых полагает близким творчеству Пруста и Кафки („Bладимир Набоков“. СПб. Изд. „Летопись“. 2010). Однако же его тематический выбор воспринимается с подспудным внутренним сопротивлением. Основные темы его произведений: педофилия, адюльтер и лишь за ними чудесные описания природы (особенно северорусского Оредежья), шахматы и бабочки. „Романы Набокова заполнены жеманными, соблазнительными, малолетними, похотливыми и холодными секс-бомбами“ (С.Шифф, с.230). Таким образом, разве что в предвидении сексуальной тематики, ныне заполонившей СМИ, его гений получил абсолютное подтверждение.
Отчётливо ощутимая холодная созерцательность, подчёркнуто аналитическое, лишённое сопереживания описание персонажей и скрупулёзно вывереная, но вместе с тем удручающая и отталкивающая детерминированность их поступков является характерной чертой творчества Набокова. Так в „Даре“ Набоков пишет о своём герое: „он сам замечал в себе эту странную заторможенность отзывчивости“ (курсив мой – Т.Ф.), что вполне можно отнести и к самому автору. „Спустя десятилетия русские коллеги Набокова недоумевали, есть ли у него душа, а если есть, то почему он так тщательно это скрывает“ (С.Шифф, с.101). И.А.Бунин называл Набокова „чудовищем“, имея ввиду бесстрастное, холодное отношение к своим героям (В.Левин. „Странный дар“. Предисловие к кн.: В.Набоков. „Камера обскура“. М. Изд. „ОЛМА-ПРЕСС“. 2000). З.Шаховская отзывалась о Набокове, как о „холодном судье“ („В поисках Набокова. Отражение“. М. Изд. „Книга“ .1991).
И.Толстой отмечает, что „некоторая „зажатость“ вообще характерна для Набокова: не только Алексей Кузнецов (персонаж из неоконченной пьесы „Человек из СССР“ – Т.Ф.) ничего не делает, но это ничегонеделание есть объект постоянного набоковского наблюдения. В его книгах нет динамики.“ („Набоков и его театральное наследие“; в кн.: „Владимир Набоков. „Пьесы“. М. Изд. „Искусство“. 1990; с.5). Тут же приведу и высказывание Лимонова: „У него нет доминирующей темы... Увы, Набоков всё-таки второстепенный писатель“ (с.61). Сказано по-лимоновски категорично. Конечно же Набоков крупный и в затронутых им темах интересный, глубокий, зоркий писатель.
Русская (русскоязычная) литература проникнута выраженным сопереживанием своим персонажам. На этой высокой ноте мы, её читатели, воспитаны. Холодная наблюдательность, подчёркнутое дистанцирование от описываемых действующих лиц предлагает и читателю подобное к ним отношение. Можно с отстранённым любопытсвом наблюдать душевные метания Гумберта Гумберта („Лoлита“), но сочувтвовать ему... увольте! Именно это отсутствие живого, трепетного отношения к свому герою очевидно является одной из причин моего сдержанного отношения к творчеству Набокова.
В.П.Аксёнов как-то заметил, что „литература – всегда ностальгия,... тоска по прошедшему времени“. Набоковская ностальгия именно тоска по прошедшему времени, по утраченному благополучию и покою. „Всё, о чём мы пишем, написано по личному поводу, а другой литературы не бывает“ (А.Кушнер „От автора“. В кн.: „Апполон в снегу. – Заметки на полях“. Л. Изд. „Cоветский писатель“. 1991, с.7-8). Ностальгическое чувство Набокова эгоцентрично, приправлено обидой на страну, ставшую большевистской и отказавшую ему в признании. Оно обращено исключительно к чарующей русской природе, к некогда весьма благополучным условиям жизни в России, обусловленным богатством аристократического рода, но никак не к соотечественникам и их проблемам, их духовному богатству, ментальности и языку. Да и сама родина его больше не интересовала. Приведу стихи из романа „Дар“, выражающие чувства автора: „Благодарю тебя, Отчизна,/ за злую даль благодарю!/ Тобою полн, тобой не признан,/ я сам с собою говорю“.
Аристократический род Набоковых, ведущий происхождение от татарского мурзы Набока или Набука, принявшего русское подданство и крещение ещё при Иване III, в XIX столетии был пополнен немецкой кровью. Кое-как смирившись с женой Владимира Дмитриевича Еленой Ивановной (из богатейшей купеческой семьи Руковишниковых), родня Набоковых традиционно дистанцировалась от русских людей, довольствуясь общением внутри своего клана. „Англоманство семьи было абсолютное..., всё сколько-нибудь значимое произносилось по-английски или, на худой конец, по-французски“ (А.Сёмочкин, с.62). Русский язык в обиходе был спорадичен и использовался в основном для утилитарных нужд (общение с прислугой, кучером, шофёром, немногими русскими домашними учителями и гостями и т.п.). Даже обучение в петроградском Тенишевском училище почти не расширило круг его контактов с русскоговорящими людьми. По свидетельству Набокова, с детства отличавшегося замкнутым характером, на улицах города он не имел возможности поговорить с людьми, приезжая и уезжая из училища на автомобиле, а во время занятий общался с трёмя-четырьмя друзьями-одноклассниками („Другие берега“). „Его... одиночество продолжалось весь русский период жизни (до 1919 года)“ (А.Сёмочкин; с.76).
Таким образом русский язык на первых этапах жизни был для Набокова вторичным по значимости. Можно сказать, что начиная с детских лет Владимир Набоков жил на родине в условиях искусственно созданной внутренней эмиграции, что существенно мешало овладению разговорным русским языком. К его изучению Володю привлекли уже тогда, когда он свободно говорил, читал и писал по-английски и по-французски. Правда, потом был курс русской филологии в Кембридже, прочитанный от корки до корки четырёхтомный словарь Даля, годы упорного изучения русской классической литературы. Живя в Германии, он читал периодику Советской России, труды В.И.Ленина и марксисткую литературу. По словам Набокова, читал с отвращением, отвергая и её смысл, и новую лексику, и послереволюционную грамматику, как несоответствующие его представлениям о русской культуре. Несколько раз обращался к советским темам, но плохо получалось. Таким образом приобщиться к современной родной речи Набоков не мог. Да и поздно было.
Набоков сам признаёт это: „Увы, тот «дивный русский язык», который, сдавалось мне, всё ждёт меня где-то, цветёт, как верная весна за глухо запертыми воротами, от которых столько лет хранился у меня ключ, оказался несуществующим, и за воротами нет ничего, кроме обугленных пней и осенней безнадёжной дали...“ (В.Набоков. Послесловие к первому изданию „Лолиты“ на русском языке, 1965). Однако в рецензиях, отзывах и предисловиях к произведениям Набокова с удивительным постоянством отмечают достоинства русского языка, которым написаны его произведения (Ю.Анненков. Интервью газете „Последние новости“ (Париж), 12.03.1938; В.Ходасевич. Отзыв на пьесу „Человек из СССР (драматические фрагменты)“. Газета „Возрождение“ (Париж), 22.06.1938; З.Шаховская; Б.Бойд. „Владимир Набоков. Pусские годы“. М. Изд. „Независима газета“. 2001); Д.Набоков (Предисловие к кн.: „Лаура и её оригинал: фрагменты романа“. СПб. Изд. „Азбука-классика“; 2010); Г.Барабтарло („Лаура и её перевод“. В кн.: „Лаура и её оригинал: фрагменты романа “. СПб. Изд. „Азбука-классика“. 2010; с.131-189).
„Одна известнейшая наша поэтесса, встретившись с Набоковым, cтала громко восхищаться его необыкновенно чистым, прозрачным, хрустальным русским языком. (Выслушав её, Набоков – Т.Ф.), ...грустно улыбнувшись, сказал: «Ведь это – замороженная клубника»... Нельзя не признать, что в этой горькой самооценке – немалая толика истины“ (Б.Сарнов. „Расширение словесной базы“. В кн.: „Если бы Пушкин жил в наше время...“.М. Изд „Аграф“. 1998, с 442). Странным образом реплика Б.Сарнова осталась без внимания ценителей творчества Набокова. равно как и набоковская самооценка. Однако внимательное прочтение его русскоязычных произведений приводит к поразительным выводам. Чтобы быть бесспорно доказательным, необходимо привести множество примеров-выписок из его текстов. В статьях такое количество примеров справедливо считается излишним, но в данном случае они абсолютно необходимы.
В монографии о жене В.В.Набокова Вере Евсеевне С. Шифф подчеркнула, что: „Вера... автоматически исправляла орфографию (мужа – Т.Ф) и ошибки в употреблении слов. По словам Веры, Набоков, принимаясь за книгу, «был весьма невнимателен по части грамматики»“ (с.74). Действительно, в русскоязычных произведениях Набокова постоянно встречаются ошибки в орфографии и пунктуации (к примеру: „мятель“, „вафельный букет (т.е.брикет) мороженного“; многочисленные запятые даже в простых фразах), но наибольшее внимание привлекает его лексика.
По-видимому, находясь под влиянием русской классической литературы, Набоков часто употреблял устаревшие слова и выражения. Приведу несколько таких примеров. „Игнорировали отчимом“; „получил крепкий мячик в рёбра“; „готовился овладеть моей душенькой“; „кончили ли вы (прочли ли журнал – Т.Ф.) «Взгляд и вздох»?“; „женщина... с тяжёлыми ладвиями“ (т.е. бёдрами, ляжками) („Лолита“); „в понедельик Франц размахнулся“ (стал много тратить денег – Т.Ф.) („Король, дама, валет“); „пришёл на фильму“ („Камера обскура“); „ушли телефонировать“ („Весна в Фиальти“); „с крашенными вохрой стенами“ („Дар“); „фамилья“ („Другие берега“). Предположим, что автор этими словами хотел передать особенности речи действующего лица. Не мотивированные сюжетом, к тому же в ряде произведений произносимые человеком нерусским, они производят странное впечатление. Так как язык лексически, тематически, интонационно и даже орфографически постоянно обновляется, попытка применить устаревшие слова и обороты речи к описанию событий нового времени профанирует произведение.
Некоторые лексические обороты в произведениях Набокова – явные сколки с английского языка, с детских лет ему более привычного: „в тот миг, что (когда – Т.Ф.) хлынул... воздух“ („Защита Лужина“); „предъявлять... эту ужимку всякий раз, что (когда – Т.Ф.) данный персонаж появляется“; „снял свой серый халат“; „со своими подстриженными волосами“ (в русской речи притяжательные местоимения в подобных случаях опускают: принадлежность того или иного предмета конкретному персонажу сама собой разумеется – Т.Ф.); „девочки... заштепсилили ёлочку“; „буду делать восемьдесят миль без крушения“; „психотераписты“ (русск.– психотерапевты) („Лолита“); „жилистый американец – линчер“ (русск. – линчеватель) („Другие берега“); „перечитываемую штуку“ (здесь немецк. Stück – статья, пьеса.) („Дар“). Неслучайно „…в 1930-е годы, когда взошла... (В.В.Набокова – Т.Ф.) звезда, эмигрантское общество злорадно подчёркивало нерусский характер его произведений...“ (С.Шифф, с.88).
Произведеня Набокова насыщены метафорами. Порой они не укладываются в семантику русского языка. Приведу лишь малую толику таких примеров. „Я поддаюсь некоему обратному воображению“; „…девочка с наглажеными морем ногами…“ („Лолита“); „...со свечкой,... ошалевшей от того, что вынесли её ... в неизвестную ночь“ („Защита Лужина“); „душа в ней осипла“; „Франц с беззвучным стоном откидывался назад“; „сверкала текучими серьгами“; „перед глазами поплыли румяные пятна“ („Король, дама, валет“); „прижимая губы... к занавеске, я постепенно лакомился... холодным стеклом“ („Другие берега“); „в бодрый, дерзкий день“; „начала подливать к коленям кудрявая пена“ (персонаж входит в море – Т.Ф.); „дорога... гладко подливала под...“ (мчащийся автомобиль – Т.Ф.) („Камера обскура“); „разум в нём облысел“ (о старике – Т.Ф.) („Событие“); „газ не брал спичку“; „музыкально-смугло мычал“; „шкаф... раскрывался с толковым видом простака-актёра“; „возился с радио, удавляя пискунов, скрипунов“ („Дар“); „обмелевшее автоматическое перо“; „в загорелой соломенной шляпе“; „нашёл... в малопосещаемом карманчике“ („Подвиг“).
Лексика Набокова часто диссонирует с устоявшимися оборотами русского языка, а порой совершенно непонятна. Приведу несколько бросающихся в глаза примеров: „прелестные оживлённые ноги“; „она была...нимфеткой.., бежавшей на ветру“; „чуть туповато ставившей носки“ (косолапо?, широко разводя носки туфель?); „её отсталую ногу“ (стоявшую на нижней ступени?); „вернулся к своей... насмешливой норме“ (манере?); „коттедж, вперёд задержанный нами“ (забронированный?, заказанный?); „у почтового ящика, относящегося к нам“ („Лолита“); „велосипед... стоял на голове в углу“ (вверх колёсами?); „отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости“; „эти сквозные звуки странно преображались в его полусне“; „с раннего детства любил привычку“; „...окно спальни, из него-то высунулся этот шёпот“; „Лужин нашёл (картинку – Т.Ф.) аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки“; „это не играет значения“; „в Берлине всегда возня с выпусканиями“ (паспортный контроль?, таможенный осмотр?); „ему отвратительно неприятно“, „надув шею, зевает“ (напрягая мышцы шеи? Зевая, „надуть“ шею невозможно); „продолжал потаптывать платком по мокрой скатерти“ (промокать платком?); „мячики для мелкой лупни в пинг-понг“; „перед глазами в сравнительной темноте“; „Франц прикупил к своему билету дополнительный чин“ (доплатил за билет в вагон более высокого класса?); „Франц... слушал гладкую быстроту“ (шуршание шин автомобиля?); „поспешно кокал ложечкой по яйцу“; „Франц, у которого юмор был туговат“; „сказал доктор, вея мимо“ (пробегая?); „клоун мягко ухал по сцене“ (прыгал?, охал?); „оставил оглушённый стол“ (грязный?, неубранный?); „дыхание дошло до шестидесяти движений в минуту“ („Король, дама, валет“); „нос... облегчает... приёмом зажима и стряха“; „прочая симметрия... притягивала мой карандаш“ (асимметрия лица гувернантки?.) („Другие берега“); „поймать кузнечиков в руку“; „захлопнула ему дверь в лицo“; „друг в друга шарахали... водой“; „старушку совершенно замял и растоптал“ (морально подавил?, раздавил?) („Камера обскура“); „подвержен угловым болям“ (болям при наклонах туловища?) („Волшебник“); „литература...становилась... срединной“; „мы преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть“ (стиснуть друг друга в обятиях?) („Весна в Фиальти“); „держала (грудного ребёнка – Т.Ф.) в ожидании рыжка“; „промахивает... поезд“; „в один смутно прекрасный вечер“; „не скопивший... жизненных драгоценностей“; „боялся слишком точно рассматривать“(пристально?); „Колдунов на него наплывал без слов“ (молча наваливался?, подминал под себя во время борьбы?) („Лик“); „предлагают сажать телеграфные столбы“ (устанавливать?) („Порт“); „в опустошительные книги качнулся я“ (драма „Смерть“); „нет прикрас никаких у решётки“ (украшений?) (стихотворение „Ульдаборг“); „спокойным играм мы... предпочитали потные...“ (подвижные?, утомительные?) („Дар“); „вверх по стволам (деревьев – Т. Ф.) взлизывали длинные травы“ („Слово“).
Нередко слова и словосочетания, упоребляемые Набоковым, неприемлемы в русской литературной речи. Похоже, что некоторых обиходных слов он просто не знал. Приведу примеры, одни комментируя, а другие предлагая истолковать читателю. „Я последовал за ним... тройным кенгуровым прыжком, оставаясь стойком при каждом скачке“); „заканчивает затаптывать свою жену под воду“ (т.е. топить); „как оно оказалось на первый вздрог“ (поначалу, сперва, в первое мгновение); „...сопровождая извиваниями губ“ (кривя губы); „вы здорово лупите“ (т.е. быстро ездите – Т.Ф.); „скорость изнашивалась“ (т.е. уменьшалась); наши голоса затоплял звонивший... телефон“ („Лолита“); „по мере того, как расходился автомобиль“ (набирал скорость, разгонялся) („Защита Лужина“); „лежал..., уткнувшись боком в скалу“ („Звонок“); „палки для хоккея“ (клюшки); „большущее фиолетовое пятно на толстой плечевине“ (синяк на плече); „мелькали неверные глаза“ (о неуверенных в себе людях); „…плоских саночек, предназначенных мускулистому животу“; „со склизким шорохом стала вылезать из трико (мокрого после купания – Т,Ф.) “; „проводи меня кусочек“ („Король, дама, валет“); „инеистое дерево“; „сыздетства“ (сызмальства); „отраду нахожу в личных молниях“ (озарениях); „целулоидовый воротничок“; „там, в приютном углу ждала меня Тамара“; „толстомордые колледжевые швейцары“; „...с возрастом (туловище становится – Т.Ф.) тяжёлым и смутно-уродливым в очерке евнушьих бёдер“; „перо-самотёк“ (авторучка) („Другие берега“); „cкоро она обтянулась“ (располнела, отъелась); „он почувствовал полегчание“; „это нервило её“ („Камера обскура“); „пришло несколько кофейниц“ (любительниц кофе, кофеманок); „в ходячем образе слова“ (расхожем) („Волшебник“); „продавец... сластён“ (т.е. сластей. Сластёна /разг./ – любитель сладкого, сладкоежка) („Весна в Фиальти“); „забавные запястья“ (имеются ввиду браслеты) („Лик“); „служил лакеем в столовой германского экспресса“ (т.е. официантом в вагоне-ресторане) („Случайность“); „фиксирует эскиз из выдувного флакона“ (пульверизатора) (драма „Событие“); „переварить кабанью головизну“ (стихотворение „Шекспир“); „сквозными крыльями восторженно всплеснёт“ (стихотворение „Эфемеры“); „через миг колёса раскачнулись“ (стихотворение „Экспресс“); „вывеска подвальной угольни“ (кочегарки или склада угля в подвале); „няня борется с увалистой и валкой камышовой ширмой“ (неустойчивой); „составной дух мороза, пота и мастики“; „взнашивая вёдра“ (т.е.нeся наверх); „сдерживает шаг до шляния“; „в горле стоял кубик“ (комок); „великолепный, но совершенно недоходный лоб (о глупом человеке)“; „граживали“ (угрожали, грозили); „пишу зря, промахиваясь словесно“; „узость боков“ (о фигуре женщины); „скорой походкой на пуговках“ (на пальцах ног, на цыпочках); „почему ты окислился?“ (скуксился); „он подразумно знал“ (подспудно); „подтравная речь“ (приглушенная, двусмысленная, обиняками), „летел дождь“; „...полицейским, уже вконец почерневшим и свалявшимся от мокpоты“ (т.е. промокшим насквозь под дождём); „сопутствуемая путающимся в своих полах ветром, процессия...“ (т.е. порывы ветра трепали одежду идущих людей); „работал на месте автомобиль“; „рифмы... сложились... в систему... картотечного порядка“; „мышление... неуимчиво“ („Дар“); „круглый родимый прыщ у ноздри“ (родинка); „действовало неотразимо, разымчиво“ (располагающе); „болванка шоколада в... обёртке“; „писала..., быстро виляя карандашом по странице“ („Подвиг“).
Количество аграмматизмов у Набокова ошеломляюще велико. Они встречаются во всех его русскоязычных сочинениях. По-видимому, он местами пытался стилизовать свои фразы под русский разговорный язык, то и дело ошибаясь. Собрать все ошибки в произведениях, написанных им по-русски или переведенных им на русский язык, в настоящей статье невозможно. Но именно они, бьющие в глаз погрешности в русском языке, были одной из причин моего невосторженного отношения к творчеству Набокова.
Примечательно высказывание Левина о лексике Набокова: „Как определить принадлежность писателя к той или иной культуре и национальной литературе?... Конечно же по языку… Чтобы создать оригинальное литературное произведение, мало в совершенстве знать язык. Мало говорить, писать, думать на этом языке, желательно ещё говорить, писать и думать именно так, как делают люди с рождения воспитывавшиеся в данной языковой среде и культуре“ (с.345). Возникает вопрос: может ли большой талантливый писатель В.В.Набоков с полным правом считаться русским писателем?
Приведенная выборка из написанных русским языком произведений В.В.Набокова показывает, что русский по происхождению литератор Набоков не знал русского языка в той мере, в какой должен его знать русскоязычный писатель. Он владел русским языком, как иностранец, посвятивший много времени его изучению, но так и не овладевший им в полной мере, или как эмигрант, на протяжении своей жизни и, что особенно важно, в детские годы мало общавшийся с носителями языка.
Творчество Набокова явственно предупреждает о возможной утрате русского языка, поджидающей детей русскоговорящих эмигрантов уже в первом поколении и, тем более, в последующих генерациях. Жаль, очень жаль!
ББК 821.161.1
YAK 83.3(2Рос=Рус)6-8 Набоков В.В.
ВЛАДИМИР НАБОКОВ КАК ËÈTEPATYPHÛÉ КРИТИК (ВОСПРИЯТИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА)
VLADIMIR NABOKOV AS A LITERARY CRITIC (PERCEPTION AND ANALYSIS OF THE WORKS OF ANTON CHEKHOV)
Статья посвящена раскрытию литературно-критической позиции В.В. Набокова. Ключевым является вопрос определения взгляда классика на процесс создания художественного произведения и его восприятия читателем. В качестве примера реализации в критическом тексте принципов и установок Набокова-критика рассматривается лекция писателя о творчестве А.П. Чехова.
The arcticle is dedicated to (contains) Nabokov"s critical opinion. The key issue is the attitude of the classic to how a book-work is created and how it is interpreted by readers. As an example of Nabokov"s critical principles we can take the lectures on Chehov"s creative work by Nabokov.
Ключевые слова: русское зарубежье, литературная критика, индивидуальный поиск, художественное творчество, анализ, традиция, пошлость.
Key words: russian abroad, the literary criticism, individual search, art creativity, the analysis, tradition, platitude.
«Вслед за правом создавать, право критиковать - самый ценный из тех даров, которые могут предложить нам свобода мысли и речи».
В.В. Набоков
Результатами пристального внимания к жизни и творчеству Сирина стало огромное количество статей, тематических сборников, диссертаций, монографий, открытие дома-музея, публикация радио- и телеинтервью, экранизация произведений, выпуск документально-биографических фильмов, что свидетельствует о целом, сложившемся в мировом литературном сообществе, направлении - набоковедении.
Исследователи творчества Набокова посвящают свои работы не только анализу художественных произведений автора, но и интерпретации его критических работ, созданных в эмиграции: статей, эссе, заметок, отзывов, лекций по истории литературы. Данное направление исследований вполне закономерно и интерес к нему обусловлен тем, что критика русского зарубежья обладала своими, довольно специфическими особенностями, которые принципиально отличали её от литературно-критического процесса в советской России.
Ограниченность читательского контингента и средств для публикаций, редкая возможность издания критических работ или даже больших журнальных статей повлекли за собой жанровые изменения: в критике «первой волны» эмиграции преобладают малые формы - проблемные и полемические статьи, литературные портреты, юбилейные заметки, эссе, обзоры. В силу особенности социокультурной ситуации, в которой развивалась эмигрантская критика, она носила синтетический характер, то есть критика и лите-
ратуроведение были менее разграничены, чем в дореволюционной России и СССР. В эмиграции было написано огромное количество работ, посвящён-ных творчеству Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, их влиянию на развитие русской культуры, в целом, и русской литературы, в частности. Это было связано с тем, что заповедью для литературной и общественной деятельности литераторов «первой волны» эмиграции стали слова З. Гиппиус: «Мы не в изгнании, мы - в послании». Целью «послания» являлось сохранение русской культуры, продолжение и развитие традиций классической русской литературы и литературы Серебряного века.
Синтезировались профессиональная, философская (религиозно-философская) и художественная (писательская) критика, публицистика и мемуаристика, следовательно, во многих статьях, личностно-автобиографическое начало выражено довольно ярко.
Не только набоковеды, но и исследователи творчества других писателей эмиграции обращаются к писательской критике с тем, чтобы увидеть, как в ней представлен взгляд на чужое творчество сквозь призму собственного литературно-художественного опыта, эстетических исканий и аксиологических установок. Таким образом, анализ эссе, заметок, эпистолярных признаний, разного рода суждений о литературном процессе, отражённых в лекциях и выступлениях, даёт чёткое представление о литературно-критической позиции автора.
И если «литературная критика - пристрастное, интуитивно-интеллектуальное просвечивание словесно-художественных текстов, выявление их наследственного историко-культурного кода, зримых и невидимых невооружённым глазом тончайших нитей, которыми данный текст прочно привязан к давнему эстетическому и этическому опыту» , то любому читателю будет интересна интерпретация того или иного художественного произведения человеком, который сам является писателем, а значит и создателем неповторимого мира и характеров.
Для того чтобы ответить на вопрос, каким исследователем (критиком) был В. Набоков, необходимо разобраться в том, с какой позиции он подходил к разбору «чужого слова» и что являлось исходными критериями для такого разбора.
Взгляд В. Набокова на процесс создания художественного произведения и его восприятие читателем изложен в статье «Искусство литературы и здравый смысл» . Здесь автор противопоставляет иррациональность и здравый смысл, объясняя это тем, что «здравый смысл в принципе аморален» , так как он губит идеи и образы, созданные воображением, а сила и значение воображения состоят в способности увидеть качества привычных вещей в совершенно неожиданном для здравого смысла свете. Увидеть в том свете, в котором позволяют это сделать нормы иррационального, удивительного. Суть иррациональных норм, по Набокову, состоит в «превосходстве детали над обобщением, в превосходстве части, которая живее целого» в способности удивляться мелочам - заглядывать в «закоулки души».
Такие категории как иррациональность, потусторонность можно считать ключевыми в художественном мире Набокова. Основываясь не только на анализе произведений автора, его комментариях, представленных в различного рода статьях и интервью, но и на том, что Набоков является наследником культуры Серебряного века, под потусторонностью мы будем понимать непосредственное ощущение тайны, окружающей человека, веру в предсказания, пророческие сны, существование сверхреальности.
В «Предисловии» к посмертному изданию его русских стихов (1979) Вера Евсеевна Набокова подчёркивает, что «потусторонностью пропитано все, что он писал <...> это давало ему его невозмутимую жизнерадостность и ясность даже при самых тяжких переживаниях» . Тем не менее, сам Владимир Владимирович никогда не давал определения потусторонности, следо-
вательно, представление о значении данного явления в творчестве Набокова читатель может сформировать на основе его уклончивых ответов в интервью или из практики анализа его произведений.
Анализ работ ведущих набоковедов, посвящённых изучению проблемы существования и значения трансцендентного в произведениях писателя показывает, что в иррациональности (потусторонности) Владимир Владимирович видит источник художественного творчества. Немногих своих героев Набоков наделяет способностью к интуитивному прозрению, ощущению вневременности или даром пророческих сновидений, что свидетельствует о трепетном отношении автора к подобного рода возможностям. Например, в автобиографическом романе «Дар» подчёркнута связь главного героя - писателя с потусторонним миром: «Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один был настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха» , «он <...> был уверен, что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он [Годунов-Чердынцев] его переводил в этот» . Эта мысль одна из ключевых в статье «Искусство литературы и здравый смысл». О процессе создания художественного произведения Набоков пишет: «Страницы ещё пусты, но странным образом ясно, что все слова уже написаны невидимыми чернилами и только молят о зримости» . Это говорит о том, что, по убеждению Набокова, все произведения художественного творчества находятся в ином пространстве и времени и все, что остаётся художнику - распознать их и записать.
По словам Набокова, в мире писателя нет места здравому смыслу, потому что именно вера в иррациональное и особое внимание к деталям даёт простор и свободу творчеству: «Писатель-творец - творец в том особом смысле, который я пытаюсь передать, - непременно чувствует то, что, отвергая мир очевидности, вставая на сторону иррационального, нелогичного, необъяснимого и фундаментально хорошего, он делает что-то черновым образом подобное тому, как в более широком и подобающем масштабе мог бы действовать дух, когда приходит его время . <...> Настоящий писатель <...> готовыми ценностями не располагает: он должен сам их создавать. Писательское искусство - вещь совершенно никчемная, если оно не предполагает умения видеть мир прежде всего как кладовую вымысла» .
По Набокову, задача настоящего писателя состоит в индивидуальном поиске: умение отойти от общепринятых жанрово-тематических канонов, творческая смелость, яркие, оригинальные, необычные открытия - все это отличает истинного художника.
Неоднократно в статьях, интервью, письмах писатель однозначно высказывался об «общих идеях», включая в это понятие всевозможное обобщение.
Владимир Владимирович не уставал повторять, что подобные идеи губительны для воображения и для индивидуального эстетического поиска, следовательно, для творчества. В интервью 1961 г. Набоков откровенно заявляет: «Ненавижу общие идеи. Посему ни разу в жизни не подписал ни одного манифеста и не был членом ни единого клуба» . В эссе «On generalities» он называет обобщения «демоном», любителем таких слов как «идея», «теченье», «влияние», «период», «эпоха».
Как видим из вышесказанного, неприязнь к «общим идеям» и доверие к иррациональности и потусторонности является важной частью индивидуально-авторского видения процесса творчества: «Так или иначе процесс этот все равно можно свести к самой естественной форме творческого трепета - к внезапному живому образу, молниеносно выстроенному из разнородных деталей, которые открылись все сразу в звёздном взрыве ума» . Идеальный читатель в мире Набокова - тот, кто сможет увидеть художественное произведение «каким оно явилось автору в минуту замысла, как если бы книга могла читаться так же, как охватывается взглядом картина».
Набокову-критику интересна индивидуально-авторская концепция создания художественного произведения, он не уделяет внимания типу культурного сознания писателя, главное - это частные открытия и личностно-выработанные ценности. Он видит текст как Вселенную, в которой сосуществуют реальный и сверхрельный миры. И с чем большим доверием автор художественного произведения относится к потустороннему миру и его трансцендентному познанию, тем с большим уважением Набоков пишет об этом авторе.
В контексте проблемы выявления преемственных связей В. Набокова с русской литературной классикой выделяется и, можно сказать, является репрезентативным обращение писателя к творчеству А.П.Чехова. Сам Набоков, будучи весьма щепетильным в оценке своих предшественников, никогда не скрывал его особой значимости для определения своих эстетических принципов. Не случайно в статье «Юбилейные заметки» он признался: «Именно его книги я взял бы с собой на другую планету.» Чехову отводится значительная доля внимания и в литературно-критических работах В. Набокова.
В 1948 году В. Набоков получил место доцента отделения славистики в Корнеллском университете, где им были прочитаны лекционные курсы «Мастера европейской прозы» и «Русская литература в переводах». А в 1981 году эти материалы были собраны и впервые опубликованы в книге «Лекции по русской литературе». В лекции о Чехове Набоков анализирует рассказы «Дама с собачкой», «В овраге» и пьесу «Чайка».
Формально лекции представляют собой пересказ чеховских текстов. Комментарии лектора немногочисленны и кратки, поэтому их следует рассматривать в контексте литературно-критической концепции Набокова.
Как нами уже было замечено, он не заостряет внимания на эпохе, в которую был создан текст, не ищет политической назидательности или обобщающей морали. Главное для критика - раскрыть для читателей (слушателей) индивидуально-авторское видение мира того писателя, чей текст Набоков анализирует.
Самым показательным в этом смысле является анализ Набоковым рассказа Чехова «Дама с собачкой». Говоря о композиции, лектор выделяет в рассказе 4 части и обозначает кульминацию развития действия, сопровождая это пересказом ключевых моментов, цитатами из текста и своими комментариями.
Анализируя первую часть рассказа, Набоков делает акцент на способности Чехова видеть мир сквозь призму мельчайших деталей: «сразу замечаешь магию деталей» , «проблеск чеховской системы передавать обстановку наиболее выразительными деталями природы» . Это объясняется тем, что развёрнутые описания и навязчивые подчёркивания были чужды поэтике самого Набокова. Он считал, что у искусства по определению не может быть поучительной цели. Цель искусства в создании новой реальности, не подражающей жизни, а новой, индивидуально-авторской. Эта реальность и складывается из «незначительных деталей», штрихов, которые художник слова подмечает будто невзначай.
Далее лектор переходит ко второй части рассказа, где приводит большую цитату из текста, оставляя её без комментариев. Но в контексте его картины мира нам понятно, почему Набоков приводит именно этот отрывок: «В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда ещё тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего
вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки - моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве. Подошёл какой-то человек - должно быть, сторож, - посмотрел на них и ушёл. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришёл пароход из Феодосии, освещённый утренней зарей, уже без огней» .
Приведённая цитата принципиально важна для Набокова, так как здесь Чехов выходит за рамки реализма, говоря о «покое, о вечном сне, <...> о высших целях бытия», что свидетельствует о существовании второй реальности, которую писатель не называет, но лишь обозначает.
Третья часть рассказа маркирована лектором как кульминационная. И Набоков вновь обращается к важности деталей и намёков в чеховском тексте: «Неожиданные маленькие повороты и легкость касаний - вот что поднимает Чехова над всеми русскими прозаиками до уровня Гоголя и Толстого» . Тут лектор упоминает и о критиках Чехова, которых возмущало отсутствие назидательности и поучительности в его текстах, обвиняя Чехова в «банальном и бесполезном писательстве», но, по мнению Набокова, подмечая незначительные детали обстановки, окружающей героев, Чехов «поступает как настоящий художник <...> это самое важное в подлинной литературе» .
Из четвёртой части рассказа лектор приводит развёрнутые цитаты, сопровождая их короткими замечаниями. Это связано с тем, что «последняя главка передаёт атмосферу тайных свиданий в Москве». По Набокову, тайна - это спутник потустороннего. Поэтому «тайные свидания», «жизнь, протекавшая тайно», «все. происходило тайно от других», «каждое личное существование держится на тайне», все это особенно дорого лектору, и является неоспоримым основанием для того, чтобы Набоков назвал рассказ Чехова «Дама с собачкой» одним из самых великих в мировой литературе.
В. Набоков считал себя единомышленником А. Чехова и в осмыслении некоторых этических проблем. Так, известно, что Чехова волновала проблема обличения пошлости и мещанства на протяжении всей его жизни: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни. Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, её он осмеивал умея найти прелесть пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже - с блеском», - говорил Максим Горький.
Вслед за Чеховым, В. Набоков в статье «Пошляки и пошлость» напишет: «Мещанин - это взрослый человек с практичным умом, корыстными, общепринятыми интересами и низменными идеалами своего времени и своей среды <...> В прежние времена Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали пошлость, так же как показное глубокомыслие. Но пошляки есть всюду, в любой стране.» .
В «Лекциях по русской литературе» В. Набоков подробно анализирует систему персонажей в рассказе А. Чехова «Дама с собачкой».
Критик делает вывод о том, что все герои рассказа описаны как пошлые. У Гурова - это его отношение к женщинам: сначала его влечение к Анне Сергеевне, «отдыхающей на модном морском курорте основано на пошлых историях» . Жена Гурова - «суровая женщина <...>, которую муж <...> в глубине души считает узкой недалёкой и бестактной» . Анна Сергеевна после любовной сцены «похожа на унылую грешницу с распущенными волосами, висящими по сторонам лица» . Своего мужа она называла «лакеем». Чиновники, приятели Гурова, по мнению Набокова, похожи на «дикарей, которых интересуют только карты и обжорство» .
Следовательно, в мире Чехова, по убеждению Набокова, пошлым считается стадное чувство, а также бездумное и безмерное потребление удовольствия. И только личностно выработанная ценность может одухотворить человека. В рассказе «Дама с собачкой» такой ценностью является любовь. Только полюбив по-настоящему, герой начинает переоценивать свою жизнь, которая, по словам Набокова, была пуста, скучна и бессмысленна.
Литература
1. Набоков, В.В. Искусство литературы и здравый смысл [Текст] / Н.Г. Мельников / Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе. - М. : Независимая газета, 2002. - 704 с.
2. Набоков, В.В. Дар [Текст] / В.В. Набоков // Соч. : в 4 т. / В.В. Набоков. - М. : Правда, 1990. - Т. 2. - 446 с.
3. Набоков, В.В. Дар [Текст] / В.В. Набоков // Соч. : в 4 т. / В.В. Набоков. - М. : Правда, 1990. - Т. 3. - 480 с.
4. Набоков, В.В. Лекции по русской литературе [Текст] / В.В. Набоков. - СПб. : АЗБУКА-КЛАССИКА, 2010. - 448 с.
5. Набоков, В.В. Пошляки и пошлость [Текст] // В.В. Набоков / Лекции по русской литературе. - СПб. : АЗБУКА-КЛАССИКА, 2010. - 448 с.
6. Набокова, В.Е. Предисловие [Электронный ресурс] / В.Е. Набокова // Примечания к стихам из разных сборников. - Режим доступа: http://nabokov.niv. гu/nabokov/stihi/pгimechaniya.htm.
7. Прозоров, В.В. История русской литературной критики [Текст] : учеб. для вузов / В.В. Прозоров. - М. : Высшая школа, 2002. - 463 с.
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии/ Под общей редакцией Н.Г.Мельникова. Сост., подг. текста Н.Г. Мельников, О.А. Коростелев. Предисл., преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н.Г. Мельников. - М.: Новое литературное обозрение, 2000
В книге впервые в таком объеме и полноте собраны критические отзывы о творчестве В.В. Набокова (1899-1977), объективно представляющие особенности эстетической рецепции творчества писателя на всем протяжении его жизненного пути: сначала в литературных кругах русского зарубежья, затем - в англоязычном литературном мире.
Именно этими отзывами (как положительными, так и ядовито-негативными) сопровождали первые публикации произведений Набокова его современники, критики и писатели. Среди них - такие яркие литературные фигуры, как Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, П. Бицилли, В. Вейдле, М. Осоргин, Г. Струве, В. Ходасевич, П. Акройд, Дж. Апдайк, Э. Бёрджесс, С. Лем, Дж.К. Оутс, А. Роб-Грийе, Ж.-П. Сартр, Э. Уилсон и др.
Уникальность собранного фактического материала (зачастую малодоступного даже для специалистов) превращает сборник статей и рецензий (а также эссе, пародий, фрагментов писем) в необходимейшее пособие для более глубокого постижения набоковского феномена, в своеобразную хрестоматию, представляющую историю мировой критики на протяжении полувека, показывающую литературные нравы, эстетические пристрастия и вкусы целой эпохи.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этом весьма щедром на громкие юбилеи году мы отметили сто лет со дня рождения Владимира Набокова - писателя, которому с равным успехом удалось укротить стихии русского и английского языка, соединив в своем творчестве две великие литературные традиции. Его путь к признанию и международной славе был не легким. Писатель, признанный к концу тридцатых годов "самым крупным явлением эмигрантской прозы", на протяжении нескольких десятилетий не был известен у себя на родине и лишь спустя 15 лет после переезда в Америку добился скандальной славы как автор "порнографической" "Лолиты".
В настоящее время в это верится с трудом, поскольку сегодня Владимир Набоков воспринимается бесспорным классиком мировой литературы; его произведения вдохновляют художников и музыкантов, по ним снимаются фильмы и ставятся спектакли, их включают в программы по литературе для университетов и школ.
В России (а еще раньше - в Америке и Западной Европе) сложилась целая каста литературоведов, специализирующихся на изучении набоковского творчества. Как и любой крупный писатель, Набоков питает целую литературоведческую индустрию, которая в устрашающем изобилии производит монографии, диссертации, тематические сборники, сотни, если не тысячи статей, посвященных различным аспектам жизни и творчества писателя (или на худой конец его родственников и далеких предков - даже тех, кто никакого отношения к литературе не имел). Набоковские произведения вновь и вновь подвергаются дотошному литературоведческому препарированию, обрастая - словно корабль водорослями и ракушками - немыслимым количеством экстравагантных интерпретаций (часто лишенных хотя бы подобия художественного такта и вкуса). Творческое наследие Набокова давно стало испытательным полигоном для сторонников различных литературоведческих школ и эстетических доктрин: компаративизм, структурализм, деконструктивизм… При всем своем внешнем различии, в применении на деле они сводятся к двум вещам: к редукционистскому вычленению "главных моделирующих доминант", "центральных метафор", под которые затем подгоняется все живое многообразие набоковского творчества, а также к азартной охоте за "аллюзиями", "параллелями", "пародийными отсылками" и "тематическими перекличками", обесцвечивающими эстетическое своеобразие конкретного произведения и растворяющими специфику художественного видения писателя в мутном потоке ассоциаций и аналогий, порожденных бурным воображением эрудированных педантов.Любого, даже случайного упоминания кого-нибудь из писателей, любого мельчайшего совпадения достаточно, чтобы на свет божий появился очередной глубокомысленный опус, в котором отчаянно упирающегося Владимира Владимировича спаривали бы с Шекспиром и Кафкой, Чеховым и Конрадом, Оруэллом и Борхесом, Фулмерфордом и Венедиктом Ерофеевым… С кем только не сопоставлялся Набоков, с кем только не сравнивались его герои! Досадно только, что при всем обилии "интертекстуальных сближений", до которых охочи и западные, и отечественные набокоеды, часто упускаются из виду важнейшие вопросы: о причастности или непричастности писателя идейно-эстетической борьбе своего времени, о его месте в ценностной иерархии определенного периода, о резонансе, который вызвало конкретное произведение, и о той эстетической дистанции, которая отделяла авторский замысел от общепринятых (в рамках данной культурной традиции) норм и жанрово-тематических канонов и т.д. Без внимания остается диалогический характер творчества писателя, поскольку наши охотники за параллелями напрочь забывают об адресате его литературной деятельности - о читательской публике и ее полномочных представителях, критиках и литературных обозревателях, от чьих оценок прямо или косвенно зависит дальнейшая писательская судьба. В результате затруднительным становится и "анализ отдельного произведения в соответствующем литературном ряду, необходимый для определения его исторического места и значения в контексте литературного опыта", и полноценное осмысление всего творческого наследия Набокова -- объективная оценка его эстетической и культурной значимости. К сожалению, немногие исследователи набоковского творчества затрагивают подобные проблемы. Куда проще и эффектнее сравнить Набокова, скажем, с Ясунари Кавабатой или Амброзом Бирсом, или сопоставить Мартына Эдельвейса с Одиссеем, Цинцинната с Иисусом Христом, а Смурова, главного героя "Соглядатая", - с мальчиком Ваней Смуровым из повести М. Кузмина "Крылья" (благо фамилии совпадают - жаль, что пока никому не пришло в голову сравнить безумного набоковского шахматиста с Петром Петровичем Лужиным, незадачливым женихом из "Преступления и наказания", впрочем, все еще впереди).
В ситуации, когда один из самых ярких и противоречивых писателей уходящего ХХ в. сделался заложником своих профессиональных почитателей, как никогда актуальным становится рецептивно-эстетический подход к его творческому наследию. Для того чтобы наглядно представить процесс постепенного разворачивания богатейшего смыслового потенциала набоковских произведений, необходимо обратиться к литературно-критическим работам тех авторов, кто имел счастье судить о них, что называется, "по горячим следам" и по сравнению с современными исследователями Набокова обладал целым рядом преимуществ.
Первые дегустаторы набоковских творений были гораздо более свободны в своих суждениях, чем нынешние набоковеды (для которых Набоков - не только объект изучения, но и строительный материал научной карьеры). Над критиками же не довлели ни авторитет классика, ни железобетонные догмы теоретико-литературных доктрин. Книги писателя гармонично вписывались в живой литературный контекст и представлялись своего рода "диким полем", полным загадок и неожиданностей, а не укатанной шоссейной дорогой - со стеклянной закусочной по одну сторону и аляповатым рекламным плакатом по другую.
В силу своей неизбежной субъективности первые толкователи набоковских произведений были застрахованы от той нелепой ситуации, когда "интерпретатор, стремящийся быть беспристрастным, неосознанно возводит свое эстетическое представление в норму и незаметно для себя модернизирует смысл текста прошлого", - скажем, топорно подгоняет довоенные сочинения Набокова под те критерии и параметры, которые были заданы его поздними вещами, "Адой" или "Арлекинами".
В первую очередь вышеперечисленными преимуществами обладали критики "первой волны" русской эмиграции. И пусть их поругивал Набоков, утверждавший в телеинтервью 1975 г.: "Эмигрантские критики в Париже <…> были один-единственный раз в жизни правы, когда сетовали на то, что я недостаточно русский". В действительности именно они наметили основные подходы к изучению набоковского творчества, заложив фундамент современного набоковедения и предвосхитив многие суждения и оценки (как положительные, так и отрицательные), которыми позже наградили писателя англо-американские критики. Как это ни печально, в подавляющем большинстве работ западных (да и отечественных) набоковедов эмигрантские критики не вполне обоснованно выставляются лишь в качестве литературных староверов, оказавшихся неспособными понять и по достоинству оценить новаторские творения незаурядного писателя, или же - как злобные, мучимые завистью интриганы, жалившие его ядовитыми рецензиями.
Спору нет, в литературном мире русского зарубежья признание далеко не сразу пришло к В. Сирину; немало было у него и литературных врагов, то и дело подвергавших его писательскую репутацию яростным атакам. Однако в англо-американском литературном мире принципиальных оппонентов и недоброжелателей у Набокова было не меньше, а славы, озарившей писателя на шестом десятке лет, ему пришлось ждать вдвое дольше (пятнадцать лет против восьми в его русскоязычный период).
Вообще, "русский" и "американский" этапы эстетической рецепции набоковского творчества на удивление похожи. Упрощая и огрубляя, но в целом довольно точно выдерживая основной рисунок, эволюцию литературной репутации В. Набокова можно представить в виде двух параллельно разворачивающихся спиралей - воспользуемся любимым набоковским образом. Первый виток спирали (1922-1929 гг. для В. Сирина и 1940-1955 гг. для В. Набокова) характеризуется появлением редких, но по большей части благожелательных отзывов; писатель мучительно ищет себя, неуклонно завоевывая признание авторитетных критиков, но пользуясь известностью в относительно узком кругу литературных гурманов. Второй виток (1929-1937 гг. и, соответственно, 1955-1969 гг.) открывается бурным успехом романа, который становится главным литературным событием года, привлекая к автору внимание литературной элиты и широкой читательской аудитории (правда, говоря об эмигрантской публике, слово "широкий" стоит взять в жирные кавычки); "Защита Лужина" - в "русский" период, "Лолита" - в "американский" делают Набокову громкое имя и выдвигают его в эшелон авторов "первого ряда". Отныне любому произведению писателя обеспечено самое пристальное внимание со стороны критиков и читателей. Он "входит в обойму" широко читаемых и печатаемых авторов; несмотря на выпады враждебно настроенных зоилов, его положение достаточно прочно - с ним вынуждены считаться даже его литературные недруги, его творчество получает общее признание. Третий виток спирали (1937-1940; 1969-1977) - своего рода "осень патриарха". Репутация писателя по-прежнему высока, он - желанный гость престижных журналов и издательств, однако в силу ряда причин намечается охлаждение к нему со стороны критиков и читателей. "Главные" вещи писателя не находят прежнего восторженного отклика, голоса недоброжелателей звучат все громче, среди литературных союзников и почитателей царит растерянность и смятение, а иные из них порой присоединяются к представителям враждебного лагеря и награждают писателя разгромными рецензиями.
При сравнении "русского" и "американского" этапов следует учитывать несколько весьма существенных нюансов. Во-первых, несоизмеримость масштабов книжно-журнального рынка и издательского дела с каждым годом нищавшей и денационализировавшейся русской эмиграции и богатейшей страны мира (учтем также Британию и другие англоязычные страны). Мировой экономический кризис катастрофически сказался на эмигрантской литературе, прикончив многие периодические издания. Говоря о литературе русского зарубежья, "нельзя забывать, что это была беднейшая - в материальном отношении - словесность современности, литература без социальной базы и часто почти без читателей". Таким образом, мизерное (по благополучным американским меркам) число печатных отзывов на произведения "зрелого" Сирина, на которое ехидно указывала, в частности, Л. Фостер (прозрачно намекая на то, что эмигрантские критики не обращали на писателя должного внимания), говорит не о злой воле критиков, а о ничтожной экономической базе эмигрантской литературы.
Во-вторых, "русско-эмигрантская" и "американская" спирали были тесно переплетены друг с другом. Эмигрантские авторы неоднократно публиковали критические статьи о Набокове (Сирине) в англоязычных изданиях (равно как и в немецко-, чешско- и франкоязычных), а некоторые американские критики (например, М. Фридберг) печатались на страницах русскоязычных эмигрантских изданий. К тому же начиная с первой половины тридцатых годов обе "спирали" разворачивались синхронно. Уже в 1933 г. критик Альберт Пэрри первым из американских авторов написал о Набокове в обзорной статье о литературе русской эмиграции. Выделив среди молодых писателей подающего надежды прозаика и упомянув три его произведения - романы "Король, дама, валет", "Камера обскура" и рассказ "Картофельный эльф", - Пэрри назвал В. Сирина "ненавязчивым приверженцем д-ра Фрейда" и пришел к заключению, что сиринские произведения достойны перевода и самого пристального внимания.
В общем, как нельзя категорично отъединять русскоязычное и англоязычное творчество писателя, точно так же не стоит отделять друг от друга процессы критического восприятия набоковского творчества в критике русской эмиграции и англо-американском литературном мире. Поэтому-то названия двух частей данной книги - "Сирин" и "Набоков" - следует воспринимать как эквиваленты словосочетаний "русскоязычное" и "англоязычное" творчество В.В.Набокова: у составителей нет никаких сомнений относительно целостности двуязычного набоковского феномена.
* * *
Говоря о перипетиях литературной биографии Набокова, нельзя не сказать о том, как воспринималось его творчество в СССР. Начиная со случайного упоминания в статье В.Волина о поэзии эмиграции и издевательского фельетона Демьяна Бедного, откликнувшегося на сиринское стихотворение "Билет" плоской зарифмованной бранью - "Что ж, вы вольны в Берлине "фантазирен", / Но, чтоб разжать советские тиски, / Вам - и тебе, поэтик белый, Сирин, / Придется ждать… до гробовой доски", - и вплоть до баснословной "перестроечной" эпохи книжно-журнального бума, когда на волне "возвращенной" литературы произведения писателя хлынули на родину, то есть на протяжении шестидесяти с лишним лет, имя писателя было вычеркнуто из официальной истории русской литературы. Поклонники набоковского таланта (они появились в Союзе уже в шестидесятые годы благодаря нелегально привезенным изданиям его романов) не имели возможности свободно высказываться в печати, а для советского официоза, безраздельно контролировавшего прессу и книгоиздание, Набоков, по его остроумному замечанию из письма А.И. Солженицыну (безуспешно выдвигавшего нашего героя на Нобелевскую премию), был "чем-то вроде покрытого чешуей дьявола". Неудивительно, что в советской печати отзывы о В.Набокове - "писателе, лишенном корней, отвернувшемся от великих традиций родной литературы" - были крайне малочисленны (чтобы их пересчитать, с лихвой хватит пальцев одной руки). Не отличаясь ни особой вдумчивостью, ни дружелюбностью, ни разнообразием, они были настояны на крепких дрожжах партийных идеологических директив и выдержаны в соответствующем стиле: "Набоков охотно подхватывает все модные веяния Запада, поклоняясь космополитизму, порнографии, абсурду. Свой вклад он внес и в антисоветскую пропаганду. В своей "эстетической программе" Набоков отрицает гражданственность творчества, пытается отгородиться от реальности в вымышленном мирке, с помощью формалистических ухищрений и ошеломляюще непристойных ситуаций утвердить свою "независимость" художника. На деле же его творчество рассчитано на обывательские вкусы буржуазного читателя. <…> Враждебность к социализму прорывается во многих произведениях Набокова. Перемены на Родине, великие подвиги ее народа он не замечает, ограничивается лишь ядовитыми сарказмами. <…> Набоков ощущает иррациональность буржуазного бытия, но от поисков позитивного отказывается. Его безыдеальные романы с замкнутой структурой, алогичностью сюжетов и малоправдоподобными характерами - это камера абсурда, где нет места ничему живому".
На фоне подобных критических опусов верхом "полит-" и прочей корректности предстает статья О. Михайлова и Л. Черткова, опубликованная в пятом томе "Краткой литературной энциклопедии" (М., 1968. Т. 5. Стлб. 60-61), где писателя вяло поругивали за то, что его книги "отмечены чертами литературного снобизма", "стиль <…> отличается вычурностью, а в романе "Дар" дается тенденциозно искаженный образ Н.Г.Чернышевского".
В годы "перестройки" утверждение литературной репутации писателя проходило весьма непросто. Возвращение творческого наследия на родину сопровождалось агрессивными нападками со стороны некоторых литераторов. В советской печати конца восьмидесятых годов то и дело появлялись откровенно погромные статьи. В одной из них - опусе Д. Урнова, красноречиво озаглавленном "Приглашение на суд", - Набоков не только получил лестную аттестацию "представителя декаданса, упадка" и эпигона Ф. Сологуба, "преемника худших, слабейших его сторон", но и объявлялся едва ли не графоманом: "Ясно, что этот человек изначально не владел языком, что он не мог писать, а раз уж все-таки стал писать и сделался писателем, даже знаменитым, это означало, что он всеми способами скрывал свою неспособность и, как безнаказанная выходка, это ему сошло с рук, удалось!"
Впрочем, появление такого рода критических опусов было закономерно. В эмигрантской и англо-американской печати Набокову устраивали выволочки и похлеще (тон, правда, был немного иной). Да критика, пожалуй, и не должна быть такой же лучезарно-благодушной, как реклама жевательной резинки "Дирол" или чудо памперсов "Бэйби драй" . Критика, как утверждал Бальзак устами прожженного писаки Этьена Лусто, - "это щетка, которой не следует чистить легкие ткани: она разрывает их в клочья". В подавляющем большинстве художественные произведения Набокова оказались выкроены из ткани, достаточно прочной, чтобы с честью выдержать не одну критическую "чистку".
На этом основании в данную книгу вошли даже самые резкие и язвительные отзывы о набоковском творчестве. К тому же некоторые из критических замечаний, брошенных в адрес писателя (я, конечно, не имею в виду вышепроцитированные статьи), вполне справедливы. Творчество Набокова неравноценно по своей эстетической значимости: бесспорные шедевры уживаются с проходными, а иногда и с провальными вещами (например, "Под знаком незаконнорожденных"), художественные открытия и озарения - с нудными повторами и самоперепевами, граничащими с автоэпигонством. В самых разносных отзывах содержится порой куда больше проницательных и острых мыслей, позволяющих проникнуть в глубинную суть художественного мира писателя, чем в иных рекламно-благодушных опусах. Теперь, в юбилейный набоковский год, когда писатель прочно утвердился на литературном Олимпе и за ним закрепился почетный титул классика, читать их особенно интересно: за ними - ушедшая эпоха, угасшие литературные страсти, отгремевшие писательские войны, отцветшие эстетические идеалы и окаменевшие теории.
* * *
В критике традиционно выделяют три основные разновидности: критика читательско-журналистская, непосредственно выражающая господствующие вкусы своего времени и пристрастия читательской публики; критика писательская, зачастую обусловленная бескомпромиссной борьбой враждующих школ и писательских группировок, а также чисто житейскими соображениями ("Литература прейдет - дружба останется" - вспомним хрестоматийную фразу, которой нередко руководствовался Г. Адамович); критика профессорско-литературоведческая (по идее - более объективная, хотя и тесно связанная с противостоянием различных эстетических и философских концепций).
Сам Набоков предлагал похожую триаду: "…Когда я думаю о критиках, я разделяю это семейство на три подсемейства. Во-первых, это профессиональные поденщики или провинциалы, регулярно заполняющие отведенные им участки на кладбищах воскресных газет. Во-вторых, критики более амбициозные, раз в два года собирающие свои журнальные статьи в том с подразумевающим некоторую ученость заглавием - "Неоткрытая страна" или что-нибудь в этом роде. И, наконец, коллеги-писатели, выступающие с рецензией на книгу, которая им полюбилась или прогневила их. Последнее породило немало ярких обложек и темных свар".
В настоящее издание включены работы, представляющие все вышеперечисленные разновидности. Вам встретятся и безвестные газетно-журнальные поденщики (которые порой оказываются интереснее и прозорливее, нежели литературные звезды первой величины), и фанатичные литературоведы-набоковианцы, готовые восхвалять любую кляксу, выскочившую из-под набоковского пера, и именитые писатели, многие из которых видели в Набокове опасного конкурента. Конечно, далеко не все из помещенных здесь рецензий и критических этюдов являются, как выразился бы Набоков, "шедеврами остроумия и проницательности". Наряду с критическими работами, конгениальными творчеству писателя, - статьями и рецензиями Г. Адамовича, В. Вейдле, В. Ходасевича, П. Акройда, Д. Апдайка, С. Лема, Э. Уилсона и других менее известных, но, как оказалось, вполне достойных авторов, - в книгу включены опусы, которым вряд ли суждено стать "вечными спутниками" набоковских произведений. Однако все они, безусловно, представляют историко-литературный интерес. С высоты прошедших лет вы можете с легкостью обвинить иных набоковских критиков во всех смертных грехах: в архаичном морализаторстве, в консервативной приверженности старым формам и нежелании принять непривычные для них особенности образного мышления, в заведомой пристрастности (обусловленной, так сказать, соображениями "окололитературного порядка"), в верхоглядстве, поспешности и произвольности выводов и обобщений. Опять же: рецидивов "вульгарного компаративизма" - произвольных ассоциаций и фантастических "параллелей", опутывающих Набокова, словно веревочки лилипутов спящего Гулливера, - у них не меньше, чем у нынешних "набокоедов".
Отчасти подобные упреки будут справедливы. Действительно, далеко не со всеми оценками, данными произведениям Набокова, мы можем сейчас согласиться. Многие критические приговоры кажутся несправедливыми, а иные скоропалительные прогнозы - просто смешными (чего стоят хотя бы рассуждения М. Осоргина о "бытовике" Сирине или глубокомысленный вывод Пэрри, увидевшего в писателе последователя Фрейда!). Все это так, однако поспешность выводов, неточность прогнозов и пристрастность оценок - эти и другие издержки и недочеты - неизбежные спутники всякого, кто занимается неблагодарным ремеслом критика. К тому же ошибки людей, дерзавших мыслить по-своему, представляют бóльшую ценность, нежели непререкаемые истины, повторяемые бездарными устами.
Смею надеяться, эти соображения можно с чистой совестью отнести ко всем критическим сочинениям, составившим книгу, цель которой не сводится к реконструкции творческой биографии выдающегося русско-американского писателя. В работе над сборником "Классик без ретуши" составители исходили из того, что отстраненный (пусть и враждебно-настороженный)взгляд на творчество Набокова глазами современных ему критиков не только поможет выявить те или иные смысловые грани и осмыслить художественные особенности набоковских произведений, но и позволит реконструировать "горизонт ожидания" того читателя, которому они предназначались, почувствовать динамику литературного процесса, с его меняющимися эстетическими вкусами и оценочными критериями.
Н.Г. Мельников
| Рубрики: | |
Среди книг
Мария Табак
Сирин и Набоков: один или двое?
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. Сост., подгот. текста Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. Предисл., преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. - М., Новое литературное обозрение, 2000
Последние два года прошли под знаком громких юбилеев. Больше всех досталось "нашему всему" - многострадальному Александру Сергеевичу Пушкину. Тут и памятники, и книжки, и фильмы, и разнообразные телепрограммы. На долю Владимира Владимировича Набокова выпало родиться ровно через сто лет после Пушкина - во всяком случае, писатель настаивал на том, что год его рождения - 1899 (относительно истинности этой даты по сей день ведутся споры). 100-летие со дня рождения Набокова отмечалось почти с тем же размахом, что и 200-летие Пушкина. И без того обширная набоковедческая литература теперь стала поистине необъятной - так много новых книг, статей и сборников было напечатано, столько прошло конференций в 1999 и 2000 годах. "Классик без ретуши", выпущенный НЛО, - одно из лучших научных изданий последнего времени, интересное как для многочисленных поклонников таланта Набокова-Сирина, так и для его не менее многочисленных ярых ненавистников.
Подзаголовок сборника - "литературный мир о творчестве Владимира Набокова" - не совсем точен. Ведь "Классик без ретуши" включает только прижизненную и (в русском разделе) только эмигрантскую критику - статьи, рецензии, пародии, написанные "по горячим следам", сразу после выхода в свет того или иного романа. Но это нисколько не умаляет ценности издания. Н. Г. Мельников в предисловии говорит о том, что, отстраненный (пусть и враждебно-настороженный) взгляд на творчество Набокова глазами современных ему критиков не только поможет выявить те или иные смысловые грани и осмыслить художественные особенности набоковских произведений, но и позволит реконструировать "горизонт ожидания" того читателя, которому они предназначались, почувствовать динамику литературного процесса с его меняющимися эстетическими вкусами и оценочными критериями". Но проблема заключается в том, что собрать все написанное о Набокове при его жизни физически невозможно, а потому составителям сборника приходилось выбирать.
Книга разбита на две части - "Сирин" и "Набоков". Таким образом, первая часть посвящена Набокову русскому, подписывавшему свои произведения псевдонимом "Сирин", чтобы его не путали с отцом, известным общественным деятелем, одним из редакторов газеты "Руль", выходившей в Берлине с 1920 по 1931 год (кстати, Н. Г. Мельников по непонятным причинам называет эту газету "печатным органом партии кадетов", хотя кадетская партия была запрещена уже зимой 1917 года). Вторая часть - Набоков американский, прославившийся на весь мир после "Лолиты". В сборник включены статьи, анализирующие основные произведения писателя: поэтические сборники, романы, рассказы, комментарии к пушкинскому "Евгению Онегину" и курс лекций по литературе. Кроме того, в конце приводится несколько обзорных критических работ и некрологов.
Претензий к составителям сборника может быть множество - в зависимости от литературных вкусов читателя и его взглядов. Кому-то может показаться, что составители отдают предпочтение одним критикам в ущерб другим - так, возможно, слишком большое количество рецензий из первой части принадлежит перу Ходасевича и Адамовича. Правда, можно возразить, что это два крупнейших эмигрантских критика, а потому их оценки наиболее значимы. Кто-то из высоколобых интеллектуалов, напротив, решит, что вовсе незачем публиковать в научном издании рецензии периферийных, на их взгляд, авторов, таких как П. М. Пильский или Л. Д. Червинская, рядом с работами мэтров, включая, помимо уже упомянутых Ходасевича и Адамовича, Ю. Терапиано, Ж.-П. Сартра и П. Бицилли.
Это что касается Сирина. Публикация же многих рецензий, посвященных анализу произведений американского Набокова, может преисполнить "набоковоманов" праведным гневом: дескать, взгляды некоторых авторов безнадежно устарели, а тут пожалуйста, печатают рецензию Кингсли Шортера, который пишет, что самое главное в "Аде" - это "явная распущенность", поскольку книга эта "просто перенасыщена всякими шлюхами и похабством, не говоря уж об инцесте", до такой степени, что у рецензента "остается гадкое ощущение от неприятного смакования автором подобных тем".
Но надо отметить, что составители сборника предвидели такие возражения. В предисловии Мельников отметил, что хоть далеко не все суждения о Набокове блещут остроумием и глубиной, но все они обладают историко-литературной ценностью.
Все статьи без исключения - оценочные и на объективность не претендуют. Это надо понять сразу, иначе читать спокойно не удастся. Некоторые лейтмотивы с невероятным постоянством кочуют из одной рецензии в другую. В чем обвиняли раннего Набокова? В первую очередь в том, что он кичится своим талантом. Достаточно привести высказывание эмигрантского критика Владимира Вейдле: "Любопытно, что в новой своей повести ("Соглядатай". - М. Т.), как в "Защите Лужина", автор интересуется одним: фактом собственного творчества". Упреки в хвастовстве и самодовольстве раздавались на протяжении всей жизни Набокова и подогревались обычно безапелляционным характером его высказываний относительно других писателей. Скажем, притчей во языцех стала ненависть Набокова к Достоевскому (хотя Сартр называет Достоевского одним из "духовных родителей" Набокова и, видимо, не ошибается). В одном из интервью Набоков сказал о Достоевском: "Он был пророком, трескучим журналистом и неряшливым шутником. Я признаю, что некоторые его сцены, некоторые его колоссальные, фарсовые скандалы невероятно смешны. Но его чувствительных убийц и душевных проституток невозможно вынести и одной минуты - во всяком случае я как читатель не могу" . Так же он оценивал произведения и многих своих современников, - немудрено, что они нередко платили ему той же монетой. Набокова упрекали в использовании избитых образов, в преждевременной старости и даже "дряхлости" (выражение К. Мочульского): вот откуда чрезвычайно гладкий стиль и похвальба собственной эрудицией, выставленной на всеобщее обозрение. Относительно последней надо сказать, что Набокову было чем гордиться. Помимо всесторонней образованности, он отличался еще и феноменальной памятью. По свидетельству И. В. Гессена, Набоков помнил все свои романы наизусть, до единого слова. Гессен говорил: "Этот ненормальный диапазон памяти представляется мне волнующе непостижимым, мы только и можем сказать, что это явление исключительное, что он избранник Божий" .
"Сделанность", "искусственность" произведений Набокова - на это особенно упирает Адамович, хотя и не только он. Такой упрек имеет под собой основания; искусственность построения романов характерна, в основном для Набокова позднего, автора "Ады", может быть самого "литературного" из всех произведений писателя. Однако уже главный русский роман Набокова "Дар" весь построен на литературных аллюзиях и прямых цитатах - к такому выводу пришел А. Долинин, автор научного комментария к "Дару".
Распространенное и самое трудноопровержимое мнение о Набокове - что он писатель очень "нерусский". Об этом говорят, в частности, М. Осоргин, М. Цетлин и Ж.-П. Сартр. Есть, правда, позиция и прямо противоположная: Николай Андреев говорит о том, что "независимо от того, какие иностранные образцы оказали воздействие (и было ли оно вообще) на формирование сиринского творчества, Сирин, на наш взгляд, самый цельный и интересный представитель новой русской прозы".
Русский писатель Владимир Сирин и американский Vladimir Nabokov для большинства исследователей - писатели разные. Конечно, они соглашаются с тем, что Сирин оказал некоторое влияние на Набокова, но это влияние не было определяющим. Подобное "раздвоение личности" Набокова позволяет американским критикам, либо вовсе незнакомым с русскоязычными произведениями Набокова, либо знакомым с ними по переводам, не всегда полностью соответствующим оригиналу (Набоков вносил изменения в тексты сознательно: у него три автобиографии, одна русская и две американские - они не слишком похожи друг на друга), рассматривать его творчество в отрыве от литературной биографии и видеть его английские романы сквозь призму неродной для Набокова американской культуры и литературы. Увлечение внелитературными контекстами, характерное для нынешней Америки, а в то время только набиравшее обороты, заставило многих исследователей анализировать произведения Набокова с точки зрения психопатологии, сексологии, фрейдизма и криминалистики, благо сами произведения давали для этого повод. Как только критики не называли несчастного Гумберта Гумберта: и "умным, рафинированным психопатом, порабощенным жертвой своего преступления" (В. С. Притчетт), и "сексуальным маньяком, преследуемым сворой негодующих благонравных граждан" (Ф. У. Дюпи), и просто банальным "извращенцем" (Станислав Лем). "Аде" достается не меньше. Критик и литературовед Элизабет Долтон начинает свою заметку о ней с заявления, что "чуть ли не единодушное признание, которым встречается "Ада", можно, пожалуй, объяснить отсутствием у ее читателей самолюбия, некритически подобострастным отношением ко всему непонятному и тягомотному".
Но у американской критики есть и преимущества перед русской. Нельзя забывать, что Набоков писал свои поздние романы, комментарии к "Евгению Онегину" и лекции по литературе для американской аудитории, потому американцы могут понять многие особенности набоковских произведений лучше, чем мы. С этим ничего не поделаешь.
Конечно, и среди американцев были те, кто "обличал" бездушие автора, его эгоизм, чрезмерную изысканность формы в ущерб содержанию. Многое из того, что ставилось Набокову в вину русскими эмигрантскими критиками, перешло и в критику американскую. Но сам Набоков, сноб и аристократ, критиков не жаловал; антипатия к ним наиболее ярко проявилась в "Даре". В одном из своих писем (кстати, редкий в биографии Набокова случай - письмо было ответом на рецензию Р. Шикеля в "Репортере") Набоков заявляет: "Я никогда не пишу критикам, вследствие чего обижаю друзей и разочаровываю врагов". Но несмотря на то, что Набоков критикам не писал, критики писали и всегда будут писать о нем, поскольку, пользуясь метафорой Мельникова, книги писателя и по сей день представляются "своего рода "диким полем", полным загадок и неожиданностей".
О Федоре Достоевском. В своих лекциях о русской литературе Набоков так писал о Достоевском, которого страстно не любил: «Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне углом, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей. В «Преступлении и наказании» Раскольников неизвестно почему убивает старуху-процентщицу и ее сестру. Справедливость в образе неумолимого следователя медленно подбирается к нему и в конце концов заставляет его публично сознаться в содеянном, а потом любовь благородной проститутки приводит его к духовному возрождению, что в 1866 г., когда книга была написана, не казалось столь невероятно пошлым, как теперь, когда просвещенный читатель не склонен обольщаться относительно благородных проституток. Однако трудность моя состоит в том, что не все читатели, к которым я сейчас обращаюсь, достаточно просвещенные люди».
О Борисе Пастернаке. Один из самых нелюбимых романов Набокова был «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Любопытно, что именно эта книга в США стала соперником «Лолиты» по тиражам и всевозможным литературным рейтингам – собственно, для Владимира Владимировича это стало еще одним поводом обрушиться с критикой на прозу своего соперника. Он говорил: «“Доктор Живаго” - это недалекий, неуклюжий, тривиальный и мелодраматический роман с шаблонными ситуациями, сластолюбивыми юристами, неправдоподобными девицами и банальными совпадениями. Словом, проза Пастернака далеко отстоит от его поэзии. Что же касается редких удачных метафор или сравнений, то они отнюдь не спасают роман от налета провинциальной банальности, столь типичной для советской литературы».
О Николае Чернышевском. В своем романе «Дар» Набоков целую главу посвятил Николаю Чернышевскому и, в общем, высмеял образ революционно настроенного писателя. Не будем приводить долгих цитат – однажды автор «Лолиты» так охарактеризовал создателя романа «Что делать?»: «Философски подслеповатый и художественно бесслухий пачкун».
Об Иване Бунине. Талантливые авторы редко любят друг друга – мешает соперничество. Этот тезис отлично подтверждает история отношений Ивана Бунина и Владимира Набокова. В молодости Набоков боготворил маститого писателя, и даже как-то прислал ему собственную книгу с подписью «Великому мастеру от прилежного ученика», однако позже отношения испортились, и автор «Лолиты» величал Бунина не иначе, как «старой тощей черепахой». Впрочем, создатель «Темных аллей» никогда не оставался в долгу, и при любом случае критиковал Владимира Набокова за огромное самомнение, однако не мог не отдавать должное его таланту. Известно, что как-то он сказал про него: «Чудовище – но какой писатель!». В последние годы жизни Бунин продолжал ревностно следить за творчеством Набокова, и сделал в дневнике следующую запись, характеризуя творчество своего вечного конкурента: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня».


Об Иване Тургеневе. Набоков очень хорошо относился к творчеству Тургенева, хотя, впрочем, не считал его идеальным: «Как и большинство писателей своего времени, Тургенев всегда излишне прямолинеен и недвусмыслен, он не оставляет никакой поживы для читательской интуиции, выдвигает предположение, чтобы тут же скучно и нудно объяснить, что именно он имел в виду. Тщательно выписанные эпилоги его романов и повестей кажутся до боли искусственными, автор из кожи вон лезет, потакая читательскому любопытству, последовательно рассматривая судьбы героев в манере, которую с большой натяжкой можно назвать художественной. Он не великий писатель, хотя и очень милый».
О Максиме Горьком. Отдавая дань пьесе «На дне», Владимир Набоков все остальное творчество Максима Горького ценил весьма низко. Он так писал о его прозе: «Заметьте, что схематизм Горьковских героев и механическое построение рассказа восходят к давно мертвому жанру нравоучительной басни или средневековых «моралите». И обратите внимание на его низкий культурный уровень (по-русски он называется псевдоинтеллигентностью), что совершенно убийственно для писателя, обделенного остротой зрения и воображением (способными творить чудеса под пером даже необразованного автора). Сухая рассудочность и страсть к доказательствам, чтобы иметь мало-мальский успех, требуют определенного интеллектуального размаха, который у Горького напрочь отсутствовал. Чувствуя, что убогость его дара и хаотическое нагромождение идей требуют чего-то взамен, он вечно выискивал сногсшибательные факты, работал на резких контрастах, обнажал столкновения, стремился поразить и потрясти воображение, и поскольку его так называемые могущественные, неотразимые рассказы уводили благосклонного читателя от всякой объективной оценки, Горький произвел неожиданно сильное впечатление на русских, а затем и зарубежных читателей».

Об Иосифе Бродском. В 1969 году издатель Карл Проффер послал Набокову в Монтрё поэму Иосифа Бродского «Горбунов и Горчаков». В ответ жена Набокова, Вера, прислала ему письмо, записанное со слов писателя: «Спасибо за ваше письмо, две книги и поэму Бродского. В ней много привлекательных метафор и красноречивых рифм, но она грешит неправильными ударениями, отсутствием словесной дисциплины и, в целом, многословием. Однако эстетическая критика была бы несправедлива ввиду кошмарных обстоятельств и страдания, скрытых в каждой строке этой поэмы».