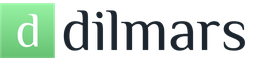Проза Тургенева и сюжетное пространство русского романа XIX столетия. Архив научных статей
Будем иметь в виду классический роман XIX в., оставляя в стороне как более ранние, так и более поздние формы этого жанра) связано с рядом трудностей. Роман представляется столь живым, многообразным и текучим явлением, он настолько связан с изменчивыми формами злободневной реальности, что опыты типологического изучения произведений этого жанра могут показаться заранее обреченными на неудачу.
Естественным представляется вывод: сколько крупных художественных произведений в жанре романа, столько и различных сюжетов. Такое представление имеет тем большее основание, что авторы
XIX в. сознательно стремятся к неповторимости своих сюжетов. Известная распря Гончарова и Тургенева наглядно свидетельствует, какие болезненные переживания вызывало даже отдаленное сходство романных сюжетов.
Введенное М.М.Бахтиным понятие хронотопа существенно продвинуло изучение жанровой типологии романа. Тем более заметны неудачи применения к роману модели, разработанной В.Я.Проппом для волшебной сказки. Все опыты расширительного толкования пропповской модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам (от чего решительно предостерегал сам В.Я.Пропп) дали, в общем, негативные результаты. Причину этого следует искать в принципиальном отличии сказочного и романного текста. Структура волшебной сказки отличается простотой и устойчивостью. Она имеет «закрытый» характер и, если говорить не о генезисе, а о взаимодействии с миром внехудожественной реальности, на протяжении своего тысячелетнего бытования предохранена от контактов. Этим определяется интернациональный характер волшебной
1
Юрий Михайлович Лотман
(1922 – 1993), советский литературовед, культуролог и семиотик.
2
Статья опубликована в 1987
году.
сказки и то, что «все волшебные сказки однотипны по своему строению».
Если внесказочная реальность вторгается в текст («тут Иван стал в змея из нагана палить»), то она не проникает в структуру ее сюжета. Эпизод этот все равно будет включаться в набор вариантов функции «бой» (по Проппу).
Функция «победа» в сюжетной структуре волшебной сказки может выполняться синонимическими и создающими варианты сюжета, но безразличными с точки зрения его константной схемы разновидностями ситуации: антагонист «побеждается в открытом бою», «побеждается при состязании», «проигрывает в карты», «проигрывает при взвешивании»,
«убивается без предварительного боя», «изгоняется». С точки зрения сказки, это варианты одного сюжета. В романе (или в подвергшихся, по выражению
М.М.Бахтина, «романизации других жанрах») это были бы другие сюжеты. В
«Маскараде» Лермонтова Звездич, вызывающий Арбенина на дуэль
(«открытый бой»), Арбенин, мстящий с помощью карт, или Трущов, который:
...в Грузии служил.
Иль послан был с каким-то генералом,
Из-за угла кого-то там хватил... -
(«антагонист убивается без предварительного боя»), представляют три различных сюжета, не равноценно замещающих, а исключающих друг друга.
Если представить себе, чтобы улан и казначей в «Тамбовской казначейше» стрелялись, как Онегин и Ленский, то перед нами также были бы совершенно различные сюжеты.
В «Театральном романе» Булгакова смысл конфликта между режиссером, предлагающим, чтобы герой пьесы закололся кинжалом, и автором, считающим, что он должен застрелиться, - в том, что различные орудия порождают разные сюжеты и меняют отношение текста к реальности: кинжал создает театрально-бутафорскую ситуацию, револьвер включает сцену в контекст действительности. Замена в том же романе в пьесе
«известного автора» выстрела из револьвера ударом садовой лейкой меняет жанр произведения.
Стремление театра второй половины XIX в. к отказу от декораций и
«вещей» вырывает театр из орбиты романа и сближает его с мистерией.
Приведем еще пример: в балладе Бюргера «Ленора» жених героини пал в войске Фридриха у стен Праги. Жуковский, трансформируя «Ленору» в
«Людмилу», актуализировал сюжет, перенеся место гибели жениха в район кампании 1807 г. (значимость этого переноса для читателей была отмечена
Шевыревым):
Близ Наревы дом мой тесный...
Там, в Литве, краю чужом...
Однако фольклоризм баллады проявляется в том, что при описании сюжета «мертвый жених» разница между «Ленорой» и «Людмилой» окажется не релевантной. Обе баллады - варианты одного сюжета. Между тем, если представить себе роман в формах XIX в., перенесение исторического места и времени неизбежно породило бы другой сюжет. В
«Пиковой даме» между Лизаветой Ивановной и Томским происходит следующий диалог: «Кого это вы хотите представить? - тихо спросила
Лизавета Ивановна. - Нарумова. Вы его знаете? - Нет! Он военный, или статский? - Военный. - Инженер? - Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?» Совершенно очевидно, что если «номенклатура и атрибуты действующих лиц представляют собой переменные величины сказки», что позволяет В.Я.Проппу резко отграничить «вопрос о том, кто в сказке действует, от вопроса о действиях как таковых», то с героем-кавалеристом весь сюжет «Пиковой дамы» был бы невозможен. Таким образом, то, что
А.Н.Веселовский назвал «современной повествовательной литературой, с ее сложной сюжетностью и фотографическим воспроизведением действительности», находится в совершенно иных соотношениях с внетекстовой семиотикой культуры, чем относительно непроницаемые для нее фольклорные тексты. Реализация сюжетного инварианта с помощью тех или иных элементов в романе может превратить текст в пародийный или столь существенно трансформировать сюжет, что он фактически отделится от инвариантного ствола и получит самостоятельное художественное бытие.
Одновременно и внутренняя структура сюжетной организации современного романа принципиально отличается от канонов фольклорного нарративного текста. В последнем случае, говорят ли о сюжете как сумме мотивов (Веселовский) или функций (Пропп), подразумевается строгая иерархическая замкнутость уровней. Роман свободно втягивает в себя разнообразные семиотические единицы - от семантики слова до семантики сложнейших культурных символов - и превращает их игру в факт сюжета.
Отсюда кажущееся хаотическое многообразие сюжетов этого жанра, их
несводимость к инвариантам. Однако эта пестрота иллюзорна: многообразие втягиваемого в текст культурно-семиотического материала, как увидим, компенсируется повышением моделирующей функции текста.
В определенном смысле роман серьезнее сказки и теснее связан с внеэстетическими задачами.
Для того чтобы стать сюжетной единицей, встречающийся в романном тексте элемент должен обладать «свободой действия», т.е. способностью входить с другими элементами в автоматически не предсказуемые комбинации. Естественно, это чаще всего происходит с персонажами, которые становятся в романе основными сюжетными единицами. Однако могут становиться участниками «сюжетной игры» и насыщенные символическими значениями
«вещи»
(например, шинель
Акакия
Акакиевича). Чаще всего последнее встречается в новелле и кинематографе, однако возможно и в романе.
При этом не все персонажи являются в точном значении
«действующими лицами». Они разделяются на субъекты и объекты действий.
Сюжетная роль первых и вторых различна.
В связи со сказанным делается очевидным, что поэтика сюжета в романе
- это в значительной мере поэтика героя, поскольку определенный тип героя связан с определенными же сюжетами. Это особенно заметно в циклах повествовательных текстов (новелл, романов, кинофильмов) со сквозным героем. Очевидно, что участие Шерлока Холмса , Растиньяка или Шарло -
Чарли Чаплина значительно детерминирует сюжет текста.
Аналогично меняется и функция реалий.
Деталь-реалия в повествовательных фольклорных текстах внесюжетна. Если она не принадлежит к разряду «волшебных предметов», а является лишь инструментом, с помощью которого реализуется та или иная инвариантная функция, она включается лишь в поверхностный слой текста, не влияя на ход сюжета.
В романе XIX в. деталь сюжетна. Если в фольклорных жанрах схема сюжета исходно дана и каждый клишированный элемент этой схемы определяет выбор последующего, то в романе возмущающее действие на сюжет внесюжетных элементов создает лавинообразный рост сюжетных возможностей. Та или иная бытовая деталь или сцепление обстоятельств, повышаясь до уровня сюжетного элемента, создает новые возможности
развития событий. При этом способность той или иной детали играть сюжетную роль часто определяется вне текста лежащей социальной и бытовой семиотикой эпохи. Функция ордена, завещания, колоды карт, закладной или банковского билета и способность этих (или иных) предметов сыграть сюжетообразующую роль определяется их принадлежностью к внехудожественным социальным структурам. В этом глубокое различие между, например, детективом и романом типа «Преступления и наказания».
Социальная открытость детектива мнимая. Все, что может быть сведено к инвариантам «преступление», «улика», «ложная версия» и им подобным, оказывается взаимозаменяемыми вариантами, переводимыми на язык сказочной загадки или трудной задачи.
Для того чтобы представить себе, как влияет «активность вещей» на построение сюжета, сопоставим, с этой точки зрения, театр и кинематограф.
В театре вещь - реквизит, обстоятельство или объект поступка. Она пассивна и не имеет «своей воли». В кинематографе вещи наделяются самостоятельностью поведения и приобретают свойства личности, становясь иногда субъектом действия. В одном из ранних фильмов братьев Люмьер зрители были поражены тем, что на заднем фоне деревья колышутся от ветра: они привыкли к неподвижным декорациям. Движущиеся деревья как бы становятся действующими лицами.
В кинематографе, как и в романе, носителями сюжетного развития становятся персонажи (включая в эту категорию образы людей, вещей, социокультурные символы и знаки и т.п.), обладающие способностью к активному поведению, совершению поступков. Поступок же определяется как действие, не (или не до конца) запрограммированное какой-либо внешней силой, а являющееся результатом внутреннего волевого импульса, с помощью которого персонаж совершает выбор действия. Персонаж как элемент сюжета всегда обладает внутренней свободой и, следовательно, моральной ответственностью. Таким образом, с одной стороны, совершается отбор людей, способных играть в романе роль сюжетных персонажей, а с другой - разнообразные силы отчужденного общества, символически воплощаясь в вещах и знаках (ср. образы шагреневой кожи у Бальзака или
Носа у Гоголя), приобретают статус такого же рода.
Сказанное связано с тем, что элементы текста - наименования предметов, действий, имена персонажей и т.п. - попадают в структуру
данного сюжета, уже будучи отягчены предшествующей социально- культурной и литературной семиотикой. Они не нейтральны и несут память о тех текстах, в которых встречались в предшествующей традиции. Вещи - социокультурные знаки - выступают как механизмы кодирования, отсекающие одни сюжетные возможности и стимулирующие другие. Каждая
«вещь» в тексте, каждое лицо и имя, т.е. все, что сопряжено в культурном сознании с определенным значением, таит в себе в свернутом виде спектр возможных сюжетных ходов. На пересечении этих потенциальных возможностей возникает исключительное богатство трансформаций и перекомбинирования сюжетных структур, определяемых традициями жанра в их взаимодействии с «сюжетами жизни». Создается исключительно емкая динамическая система, дающая писателю неизмеримо большие сюжетные возможности, чем сказочнику.
Если к этому добавить особенности романного слова, глубоко проанализированные М.М.Бахтиным и открывающие почти неограниченные возможности смыслового насыщения
7
, то сделается понятным ощущение сюжетной безграничности, которое вызывает роман у читателя и исследователя, характерный для жанра «живой контакт с неготовой, становящейся современностью (незавершенным настоящим)».
Структуру, которую можно себе представить как совокупность всех текстов данного жанра, всех черновых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возможных в данном культурно- литературном континууме, но никому не пришедших в голову сюжетов, мы будем называть сюжетным пространством.
Резко возрастающее в XIX в. разнообразие сюжетов привело бы к полному разрушению повествовательной структуры , если бы не компенсировалось на другом полюсе организации текста тенденцией к превращению больших блоков повествования и целых сюжетов в клише.
Пристальный анализ убеждает, что безграничность сюжетного разнообразия классического романа, по сути дела, имеет иллюзорный характер: сквозь него явственно просматриваются типологические модели, обладающие регулярной повторяемостью.
Закон, нарушение которого делает невозможной передачу информации, подразумевающий, что рост разнообразия и вариативности элементов на одном полюсе обязательно должен компенсироваться прогрессирующей устойчивостью на другом,
соблюдается и на уровне романного сюжетостроения. При этом непосредственный контакт с «неготовой, становящейся современностью» парадоксально сопровождается в романе регенерацией весьма архаических и отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов. Так рождается глубинное родство романа с архаическими формами фольклорно- мифологических сюжетов.
В силу уже отмеченной проницаемости сюжетного пространства романа для внеположенной ему культурной семиотики разные типы культуры характеризуются различными сюжетными пространствами (что не отменяет возможности выделить при генетическом и типологическом подходе сюжетные инварианты). Поэтому можно говорить об историко-эпохальном или национальном типах сюжетного пространства. В данном случае нас будет интересовать русский роман XIX в.
Объект этот тем более интересен, что генетически сюжетика русского романа XIX в. восходит к европейской, и еще с XVIII в. она строится практически по одним и тем же схемам. Национальное своеобразие остается в пределах бытовой окраски действия, но не проникает еще в самое структуру сюжета. Создание «русского сюжета» - дело Пушкина и Гоголя.
Попробуем проследить трансформацию лишь некоторых сюжетных схем, не претендуя на исчерпывающее описание «сюжетного пространства».
Для русского романа XIX в. актуальными оказываются некоторые глубинные мифологические модели. Проследим, как складывается эта специфическая «мифология» сюжетов.
Мы уже отмечали, что особенностью сюжетообразующего персонажа являются его активность и относительная свобода по отношению к обстоятельствам. Это привело к тому, что определенные черты сюжетообразующих персонажей были унаследованы от эпохи романтизма. В романтической поэтике активный герой, строитель сюжета, был героем зла.
Именно он - демон, падший ангел - присваивал себе свободу нарушать установленные Богом законы. Активность мыслилась как активность злой воли. Аморальный в глазах толпы герой, однако, был не аморален, а внеморален. Ценой безграничного одиночества он покупал величие и право быть выше нравственного суда других людей.
В русской литературе 1820-х гг. персонаж этот переживал существенные трансформации. С одной стороны, романтический герой сближался с
центральным персонажем элегии. Ему придавались черты «преждевременной старости души» (Пушкин). Одновременно он терял волевые импульсы и переставал быть, в отличие от героев Байрона, персонажем активного действия. Следствием этого являлось резкое ослабление сюжетности русской романтической поэмы.
Для
Пушкина это было сознательным художественным решением, хотя он в наброске письма к Гнедичу с лукавым самоуничижением писал, что в «Кавказском пленнике» «простота плана близко подходит к бедности изобретения» (XIII, 371). Само это письмо, в котором поэт развертывает не использованные им сюжетные возможности, говорит о намеренной ориентации на бессюжетность. Причем Пушкин прямо мотивирует это характером своего героя, потерявшего чувствительность сердца (XIII, 371). Характерно, что четырнадцатилетний Лермонтов, не зная письма Пушкина, ввел в свою версию «Кавказского пленника» именно те сюжетные варианты, которые автор поэмы отверг. Лермонтов тяготел к сюжетным стереотипам байронической поэмы, Пушкин же исходил из того, что «характер главного лица <...> приличен более роману нежели поэме»
(ХШ, 371).
Однако в русской романтической поэзии 1820-х гг. наметился и активный герой. В том направлении русского романтизма, которое связано с именами Катенина и Грибоедова, и в творчестве Пушкина кишиневского периода существенную роль играет противопоставление изнеженного и безвольного человека цивилизации и полного сил и энергии «сына
Природы». Если первый страдает от «преждевременной старости души», то последний наделен сильными страстями и душевной свежестью, хотя необузданность чувств часто делает из него преступника. В этом контексте слово «хищник», которым характеризуют горца Пушкин («Кавказский пленник») и Грибоедов («Хищники на Чегеме»), звучит положительно.
Разбойник («Братья разбойники»), убийца из-за любви («Черная шаль»), горец, говорящий:
Живы в нас отцов обряды,
Кровь их буйная жива, - все они дети природы, участники «борьбы горной и лесной свободы с барабанным просвещением».
Так складывалась взаимосвязанная пара персонажей: джентльмен (или молодой человек из образованного круга) и разбойник. Однако у этой пары
был и более широкий контекст в европейской литературе: в романах
Вальтера Скотта, в образах Вотрена - Растиньяка, Жана Вальжана - Мариуса и других.
В романтической традиции оба персонажа были носителями разрушительного злого начала, представляя лишь его пассивную и активную ипостаси. Но в более широкой исторической перспективе эта антитеза наложилась на уходящее в глубокую архаику противопоставление добра как сложившегося, застывшего порядка и зла в образе разрушительно- созидательного творческого начала. От архаических мифологических образов, догматики манихеев до «Мастера и Маргариты» Булгакова с эпиграфом из «Фауста» Гете: «Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» - проходит цепь образов «доброго» (творческого) зла, в покровительстве которого нуждается доброе начало человека. Отсюда образ разбойника - покровителя и защитника, актуализированный в европейской литературе начиная с Вальтера Скотта, но имеющий и таких представителей, как Ринальдо Ринальдини Вульпиуса и его двойник граф
Монте-Кристо.
Образ этот имел общеевропейский характер. Но он оказался исключительно важным для формирования специфически русского романного сюжета. Еще Салтыков-Щедрин в известном «Введении» к
«Господам ташкентцам» противопоставил западный роман как семейный («в положительном смысле (роман английский) или в отрицательном (роман французский)») русскому роману как общественному. При всей относительности такой обобщенной характеристики в ней, безусловно, содержится глубокая истина. Применительно к проблеме сюжета отличие это сказалось на разнице в ориентации на глубинный сюжетный архетип. Если рассматривать (с оговоркой на условность столь абстрактного построения) только сюжетный аспект, то западноевропейский роман XIX в. может быть охарактеризован как вариация сюжета типа «Золушки». Сказочная его основа проявляется в высокой сюжетной функции конца и в том, что основным считается счастливый конец. Несчастливый конец маркирован как нарушение нормы. Сюжетная схема состоит в том, что герой занимает некоторое неподобающее (не удовлетворяющее его, плохое, низкое) место и стремится занять лучшее. Направленность сюжета заключается в перемещении главного персонажа из сферы «несчастья» в сферу «счастья», в
получении им тех благ, которых он был вначале лишен. Вариантами могут быть удача или неудача в попытке улучшить свой статус; герой может быть добродетельным или злодеем (соответственно его попытки изменить свое положение могут оцениваться как положительные или преступные).
Несмотря на возможность многочисленных сюжетных усложнений, все эти варианты имеют одну общую черту: речь идет об изменении места героя в жизни, но не об изменении ни самой этой жизни , ни самого героя.
В отличие от сказанного, русский роман, начиная с Гоголя, ориентируется в глубинной сюжетной структуре на миф, а не на сказку.
Прежде всего, для мифа с его циклическим временем и повторяющимся действием понятие конца текста несущественно: повествование может начинаться с любого места и в любом месте быть оборвано. Показательно, что такие основные в истории русского романа XIX в. произведения, как
«Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья Карамазовы», вообще не имеют концов. В «Евгении Онегине» это результат сознательной авторской установки, в последних двух авторы не успели или не смогли реализовать свой план полностью. Но показательно, что это обстоятельство не мешает поколениям читателей воспринимать «Мертвые души» или «Братьев
Карамазовых» как полноценные, «сказавшие свое слово» произведения. Не случайно высказывалось мнение, что продолжение только «испортило» бы
«Мертвые души». По сути дела, и «Война и мир» не имеет окончания, так как эпилог, вводящий Пьера в круг декабристов, начинает новый - «главный»! - сюжет, завершением которого должен был быть замысел «Декабриста». Не имеет традиционного конца и «Воскресение». Особенно же характерно то, что в «Анне Карениной» сюжетная линия Анны завершается по канонам трагического варианта «европейского» романа самоубийством героини, а линия Левина не получает конца, завершаясь картиной продолжающихся мучительных духовных поисков героя. Образуется как бы диалог двух сюжетных схем.
Однако более существенно другое: русский роман, начиная с Гоголя, ставит проблему не изменения положения героя, а преображения его внутренней сущности, или переделки окружающей его жизни, или, наконец, и того и другого.
Такая установка приводит к существенным трансформациям всей сюжетной структуры и, в частности, охарактеризованного выше двойного героя.
Герой, призванный преобразить мир, может быть исполнителем одной из двух ролей: он может быть «погубителем» или «спасителем»; сама такая антитеза (ср.: «Кто ты, мой ангел ли хранитель, / Или коварный искуситель...», «Буду ей спаситель. / Не потерплю, чтоб развратитель...») обнаруживает трансформацию исходной любовной сюжетной ситуации; при этом «миру», России отводится функция женского персонажа «быть погубленной» или «быть спасенной», а активный персонаж трансформирует мужское амплуа, вплоть до блоковского «Русь моя, жена моя» и пастернаковского «Сестра моя - жизнь» - сквозь призму гамлетовского:
Офелия - сестра-возлюбленная. «Погубитель», «соблазнитель» мира в романе после Гоголя получает устойчивые черты антихриста. В этом качестве он, с одной стороны, наследует образный багаж демонического героя эпохи романтизма, а с другой - усваивает народные и традиционные представления об этой фигуре. Он приходит извне как гибельное наваждение. Как писал некогда протопоп Аввакум: «Выпросил у Бога светлую Россию сатона». Но одновременно это и нашествие и в этом отношении ассоциируется с иностранным вторжением (ср.: колдун в «Страшной мести» - и антихрист, и захватчик-чужеземец). От «внутренних турок» Добролюбова до рассуждений
Сухово-Кобылина: «Было на землю нашу три нашествия: набегали Татары, находил Француз, а теперь чиновники облегли» - проходит единая нить отождествления внутренней погибели с внешним вторжением. Последнее же, по свежей памяти Отечественной войны 1812 г., прежде всего ассоциировалось с Наполеоном. Так получилось, что персонаж, олицетворяющий национальную опасность, погибельные черты антихриста и воспоминание о нашествии, связывался с Наполеоном. Но имя Наполеона уже было отягчено символическими значениями предшествующей традиции.
Из романтических наслоений усваивалось подчеркивание в этом лице демонического эгоизма. Однако дальше начинались существенные нюансы.
Если для Лермонтова (и позже для Цветаевой) важен был культ романтического одиночества, то рядом существовала и другая тенденция, в свете которой Наполеон связывался с рационализмом и расчетом.
И.В.Киреевский в неоконченной повести «Остров» писал: «Пришел человек,
задумчивый и упрямый; в глазах - презренье к людям, в сердце - болезнь и желчь; пришел один, без имени, без богатства, без покровительства, без друзей, без тайных заговоров, без всякой видимой опоры, без всякой силы, кроме собственной воли и холодного расчета <...>. Каким волшебством совершил он чудеса свои?
Когда другие жили, он считал; когда другие развлекались в наслаждениях, он смотрел все на одну цель и считал; другие отдыхали после трудов, он складывал руки на груди своей и считал <...> он все считал, все шел вперед, все шел одною дорогой и все смотрел на одну цель.
Вся жизнь его была одна математическая выкладка, так что одна ошибка в расчете могла уничтожить все гигантское построение его жизни». Расчет, упорство, воля и «одна ошибка в расчете» будут постоянными чертами
«наполеоновских» героев русского романа:
Германна,
Чичикова,
Раскольникова. Происхождение Чичикова от комического варианта образа разбойника-плута (со всеми наслоениями пиккарескной традиции), а
Германна и Раскольникова - от трансформированного романтического героя- эгоиста не отменяет их функционального подобия и генетического родства.
Чичиков, «если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет
Наполеона»; ср.: Германн «сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь.
В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона» (VIII, I,
245). Курьезно, что Селифан называет лукавого пристяжного коня - своеобразного двойника Чичикова - «варвар! Бонапарт ты проклятой» (VI,
40-41). Притом этого же коня он называет «панталонник ты немецкой» (VI,
40), что ведет нас к кличке, которую дает Раскольникову неизвестный пьяный возница: «Эй ты, немецкий шляпник!» Связь знаменательна.
Этот образ рационалистического антихриста легко становился аккумулятором антибуржуазных настроений. Все оттенки смысла от эгоизма до приобретательства и власти денег связывались с этой символической фигурой.
Пришельцем извне оказывается и герой-спаситель. Если его положительные качества связаны с предпринимательской экономической деятельностью, то он порой становится перевернутым двойником все того же антихриста. Об этом говорит не только предполагавшееся Гоголем превращение Чичикова в героя добра, но и поразительное портретное сходство дьявольского ростовщика из «Портрета» и Костанжогло, особенно в
ранней его ипостаси, когда герой носил имя Скудронжогло. Ростовщик:
«Темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленое лицо <...> большие, необыкновенного огня глаза , нависшие густые брови...»
(III, 121). Скудронжогло: «смуглой наружности»; «В нем было заметно южное происхожденье. Волосы на голове и на бровях темны и густы, глаза говорящие, блеску сильного». «Но заметна, однако же, была также примесь чего-то желчного и озлобленного [зачеркнуто: Какой собственно был он нации]. Он был не совсем русского происхождения» (VII, 189). Костанжогло
«сам не знал, откуда вышли его предки» (VII, 61).
Однако двойники «спаситель - погубитель» могут иметь и другой смысл.
Для Достоевского он будет воплощаться в Мышкине - Ставрогине. Оба они
«приходят» из Швейцарии, предназначаемая им роль мессии прямо противоположна по содержанию, но в равной мере терпит фиаско.
Антимифологическое мышление Тургенева будет сосредоточено не на поисках спасителя, а на изображении тех, в ком современное писателю русское общество ищет исполнителей этой роли. Тургенев пробует варианты героя, приходящего извне пространственно (Инсаров) и социально
(передовой человек, идущий к народу), и инверсию этот образа: герой из толщи русской жизни, не-приходящий, ибо органически в нее входящий.
Неизбежное сближение характеристик «спасителя» и «погубителя» связано со следующим: человек, несущий гибель, как мы видели, - герой расчета, разума и практической деятельности, соединенных с демоническим эгоизмом. Тип этот часто осмысляется как «западный». Но и альтруистический «спаситель» обязательно наделяется чертами практика, деятеля, знающего реальную жизнь и прекрасно в ней ориентирующегося.
Он противостоит «лишнему человеку», «умной ненужности» (Герцен) к такой же мере, как и парящему над землей романтику. Практики и Базаров, и
Штольц, и герои Чернышевского. Практическую наблюдательность и понимание людей проявляет даже «идиот» Мышкин, а Алешу Карамазова старец Зосима прямо посылает, как на искус и послушание, «в жизнь». В отличие от Рудина, и Инсаров - практик, человек действия, а не мечты и рассуждений. Все это люди «реалистического труда», по выражению
Писарева
17
. Мечтательность для них позорна. «Штольц не мечтатель, потому
что мечтательность составляет свойство людей, больных телом или душою, не умевших устроить себе жизнь по своему вкусу».
Таким образом, определенными чертами положительный идеал сближается с им же отрицаемым своим антагонистом. Даже признак
«европеизма» порой оказывается общим: «Штольц - вполне европеец по развитию и по взгляду на жизнь». Наличие черт «немецкого характера», при противоположности его оценок, роднит, например, Германна и Штольца.
Герой этого типа мог, в сюжетном отношении, появиться лишь одним из двух способов: он мог явиться со стороны, извне русской жизни, как
Спаситель из пустыни. Вариантом является образ русского человека, который («нет пророка в своем отечестве») отправляется за границу и возвращается оттуда с высокой миссией Спасителя. Это не только князь
Мышкин, но и «светлая личность» из прокламации Петра Степановича:
И, восстанье начиная,
Он бежал в чужие краи
Из царева каземата
От кнута, щипцов и ката.
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.
О некоторых характерных изменениях, которым подверг Достоевский это стихотворение Огарева, речь пойдет ниже.
Второй путь, подсказанный еще Гоголем, состоял в том, что сам
«губитель», дойдя до крайней степени зла, перерождался в «спасителя».
Такое решение могло питаться несколькими идеологическими истоками. Во- первых, оно коренилось в питавшем средневековые апокрифы и полуеретические тексты убеждении, что крайний, превзошедший все меры грешник ближе к спасению, чем не знавший искушений праведник. Во- вторых, истоком его была просветительская вера в благородную природу человека. Любое зло - лишь искажение прекрасной сущности, которая всегда таит в себе возможность обращения к добру даже для самого закоренелого злодея. Наконец, особенно для Гоголя, была важнее вера в прекрасные возможности национальной природы русской души и силу христианской проповеди, которые могут сотворить чудо воскресения и с самыми
очерствевшими душами. Но тут вступала в силу другая мифологическая схема: дойдя до предела зла, герой должен пережить умирание - воскресение, спуститься в ад и выйти оттуда другим. Эту схему полностью реализует некрасовский «Влас». С этим же связана актуальность «Божественной комедии» Данте для Гоголя.
Однако сюжетное звено: «смерть - ад - воскресение» в широком круге русских сюжетов подменяется другим: преступление (подлинное или мнимое) - ссылка в Сибирь - воскресение. При этом пребывание в Сибири оказывается симметричным отрицанию бегства - возвращения в Европу. Не случайно в стихотворении
Огарева
«Студент», пародированном
Достоевским, нет упоминания о загранице, зато содержатся стихи:
Жизнь он кончил в этом мире -
В снежных каторгах Сибири.
Здесь персонаж «спаситель» смыкается с персонажем, миссия которого - в переделке своей собственной сути. Сюжет этот отчетливо воспроизводит мифы о грешнике, дошедшем до апогея преступлений и сделавшегося после морального кризиса святым (Андрей Критский, папа Григорий и т.п.), и о смерти героя, схождении его в ад и новом возрождении. Стереотип сюжета здесь задал Гоголь вторым томом «Мертвых душ». Чичиков, дойдя до предела преступления, попадает в Сибирь (которая играет роль мифологического момента «смерть - нисхождение в ад») и претерпевает воскресение и перерождение. Сибирь оказывается исключительно существенным моментом пути героев. Именно здесь «небокоптитель»
Тентетников, втянутый в политическое преступление проходимцем
Вороным-Дрянным, должен был «проснуться» и переродиться. То, что место фактической смерти замещалось каторгой - политической смертью, соответствовало всей поэтике нарождающегося общественного романа.
Сочетание исторической конкретности и даже злободневности с весьма архаическими стереотипами характерно для построения сюжета этого типа.
Несомненно то, что Уленька должна была последовать за Тентетниковым в
Сибирь, не могло не вызывать и у Гоголя, и у его потенциальных читателей воспоминаний о декабристах. Так сюжет, некогда пущенный в оборот
Рылеевым в «Войнаровском» и «Наталье Долгорукой», воплощенный в жизнь женами декабристов, вернулся в литературу в сюжетных линиях
Уленьки Бетрищевой и Сонечки Мармеладовой.
По правдоподобному предположению Ю.Манна, в Сибирь должен был привести Гоголь и Плюшкина, который, предвосхищая судьбу некрасовского
Власа, так восхищавшего Достоевского, должен был пережить Сибирь
(=смерть и видение ада) и воскреснуть, сделавшись сборщиком денег на построение храма.
По отголоскам гоголевского сюжета или независимо от него именно эта схема будет многократно повторяться в сюжете русского романа XIX в.
Раскольников, Митя Карамазов, Нехлюдов, герои «Фальшивого купона» будут совершать преступление или осознавать всю преступность
«нормальной» жизни, которая станет осознаваться как смерть души. Затем будет следовать Сибирь (=смерть, ад) и последующее воскресение.
Мифологический характер «сибирского эпизода» тем более очевиден, что в единственном романе, где Сибирь показана в реально-бытовом освещении, - в «Записках из Мертвого дома», - хотя в самом заглавии Сибирь приравнена смерти, сюжет воскресения отсутствует.
Показательно, что в «Казаках» - повести, также посвященной попытке воскресения, - воскресение не происходит именно потому, что герой не находится в мифологически-экстремальной ситуации: нет ни преступления, ни связанных с ним отчаяния и исчерпанности всех земных путей, нет смерти
- ни гражданской, ни фактической - все сводится к барской прихоти.
Несущественно, с точки зрения движения сюжета, что преступник мог оказаться мнимым преступником, преступником в глазах преступного общества, жертвой (например, герой повести Степняка-Кравчинского
«Штундист Павел Руденко»), взять на себя чужую вину и т.д. Важно, что во всех этих случаях встреча с некоторым «учителем жизни», просветление, преображение героя происходят именно после его гражданской смерти и локально связываются с Сибирью. В этом отношении характерен миф о
Федоре Кузмиче (мы оставляет в стороне находящийся вне нашей компетенции вопрос об исторической природе этого лица и рассматриваем лишь мифологический аспект, повлиявший на сюжет повести Л.Толстого). В сюжете отсутствует конкретное преступление, которое заменено осознанием преступности всей жизни как таковой, как часто в мифологических и мифо- сказочных текстах реальная смерть заменена подменной. Но очень показательно именно для русского варианта, что - и при отсутствии ссылки или каторги - воскресение происходит именно в Сибири. Весьма вероятно,
что, если бы реальный Федор Кузмич объявился не в Сибири, а где-нибудь в
Орловской губернии или Новороссийском крае, в западных губерниях или на
Кавказе, мифогенная сила его личности была бы значительно ослаблена.
Н.Ю.Образцова обратила мое внимание на то, что тот же архетип реализуется и в «Войне и мире»: возрождению Пьера Безухова предшествуют встречи с рядом «учителей жизни» («благодетель» Баздеев,
Платон Каратаев), но только второй беседует с ним в плену, который функционально равен мифологической смерти и сибирской каторге
«русского романа». И только единство этих моментов приводит к возрождению героя. Одновременно можно было бы отметить, что отсутствие каторги в варианте повести «Дьявол», где Евгений Иртенев совершает убийство, и в «Крейцеровой сонате», где, как говорит Позднышев, «решено было», «что я убил, защищая свою поруганную честь», «и от этого меня оправдали», также приводит к отсутствию сюжета возрождения.
Одновременно возникает демифологизирующая линия (например, в
«Леди Макбет Мценского уезда» Лескова), вершиной которой является
«Остров Сахалин» Чехова.
В свете сказанного приобретают особенно глубокий смысл слова
Салтыкова-Щедрина о том, что завязка современного романа «началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась <...> Сибирью». Гоголь хотел, чтобы «Мертвые души» появились одновременно с картиной Иванова
«Явление мессии народу», в которой художник ставил себе цель изобразить
(с отчетливым оттенком утопизма) момент нравственного возрождения человечества. Он писал А. Иванову: «Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе» (XIV, 217). А Стасов увидел в
«Воскресении»
Толстого
«невероятное
Преображение».
Слияние современного и мифологического начала организует сюжетное развитие того направления, о котором Салтыков-Щедрин в уже неоднократно цитированном тексте писал: «Я могу сослаться на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно предвидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности».
Если сводить всю сущность дела к противопоставлению: «семейный роман - общественный» и именно в этом последнем видеть сущность
«русского романа», то романы Тургенева, безусловно, выступят как
«общественные» и «русские». Тогда они резко отделятся от фантастико-
философских повестей того же автора или таких произведений, как «Степной король Лир». Однако стоит приглядеться внимательнее, и делается очевидным единство всей прозы зрелого Тургенева, с одной стороны, и ее своеобразие при сопоставлении с такими явлениями русского общественного романа, как проза Толстого или Достоевского , с другой.
На этом фоне проза Тургенева резко выделяется. Формальным признаком отличия является отсутствие в произведениях Тургенева мотива возрождения, его заменяет мотив абсолютного конца - смерти. Смерть героя
(или ее сюжетные адекваты) почти обязательно завершает развитие действия у Тургенева. При этом смерть в сюжетном движении романов и повестей
Тургенева выступает в двойном свете. С точки зрения героев, она неожиданна и сюжетно не мотивирована. Тургенев сознательно усиливает эту черту: если смерть Инсарова подготовлена его бедностью, болезнью и в какой-то степени закономерна - приближение ее ощущается другими персонажами и не является полностью неожиданным для читателя, то смерть
Базарова подана как нелепая случайность. У читателя даже возникает чувство, что автор просто не знал, как ему показать своего героя в действии, и он вынужден был прибегнуть к своеобразному deus ex machina, чтобы искусственно развязать сюжетные узлы. Однако эта «бессмысленность» и
«немотивированность» гибели героев, сметающая все их планы и расчеты, для самого автора глубоко мотивированна.
Сюжетное повествование Тургенева строится на столкновении осмысленности и бессмысленности. Противопоставление это задано еще
Гоголем, его столкновением «существователей» и «небокоптителей», бытие которых лишено смысла, с человеком, имеющим цель. Чем возвышеннее, благороднее и, что для Гоголя очень важно, национальнее эта цель, тем осмысленнее индивидуальное существование. Смысл «возрождения»
Чичикова и должен был состоять в обращении героя от узко личных целей к общенациональным. При наличии высокой цели и полном слиянии личных устремлений с нею индивидуальная гибель обретает черты «высокой трагедии». Она получает смысл. И гибель Остапа, и смерть на костре Тараса не воспринимаются как доказательства бессмысленности их предшествующих устремлений - напротив, именно конец их жизни освещает ее предшествующее течение высоким смыслом. Трагедия гоголевской смерти в том и заключалась, что сам он считал, что еще не разгадал своего
предназначения, что высшими силами ему предначертано высокое предназначение; он винил себя в том, что еще не нашел ждущего его пути, и боялся безвременной смерти. Писательский путь показался ему суетным и ложным, а другого он еще не нашел. И смерть в момент, когда он еще не поднял свой крест, действительно была для него трагедией, лишающей предшествующую жизнь смысла. Однако гибель мученика на арене Колизея или аскета, умирающего от того, что все отдал ближним, не бросила бы для
Гоголя иронического отблеска на их деятельность. Трагедия героев
Тургенева в том, что смерть не вытекает из их деятельности, а ею не предусматривается, она не входит в расчеты. Героический сюжет у Гоголя - отрицание смерти, и Гоголь, именно потому, что боялся в своем реальном бытии смерти, искал возможности «смерть попрать». Для Тургенева именно героизм утверждает неизбежность обессмысливающей его концовки. Герои, чья жизнь не имеет смысла, в произведениях Тургенева не умирают. Лишь только жизнь Кистера, благодаря его любви к Маше, обретает смысл, как он уже у Тургенева обречен пасть жертвой бессмысленного Лучкова («Бретѐр»).
Заключительная фраза: «Маша <...> жива до сих пор» - означает, что жизнь героини потеряла всякий смысл после гибели возлюбленного. Не только смерть Базарова, но и смерть Рудина на баррикаде выглядит как бессмысленная и не венчает предшествующей жизни, а подчеркивает ее неудачность. Правда, бессмысленность и бесцельность подвига для
Тургенева не снижает, а увеличивает его ценность, но и ценность подвига не придает ему смысла.
Поскольку мифологический сюжет строится на неслучайности и осмысленности событий (смысл мифа именно в том, что хаотическую случайность эмпирической жизни он возводит к закономерно-осмысленной модели), романы и повести Тургенева в русской литературе XIX в. играли демифологизирующую, отрезвляющую роль. Но поэтому же они звучали как выпадающие из общей структуры «русского романа». Их легко можно было осмыслить как романы «неуспеха», т.е. увидеть в них негативно реализованную европейскую модель. Это, конечно, искажало подлинную тургеневскую структуру, смысл которой не в успехе или неуспехе героев на жизненном поприще, а в осмысленности или бессмысленности их существования.
Эффект бессмысленности возникает при взгляде «из другого мира», с точки зрения наблюдателя, не понимающего или не принимающего мотивировок, целей и логики того мира, в. который он врывается или который он наблюдает. Когда Павел Петрович Кирсанов «раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу для того, чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле» с позиции вне находящегося и безразлично-созерцающего наблюдателя, то все, что «для себя» осмысленно, стало бессмысленным. Однако не только для Павла
Петровича, но, по сути дела, и для Базарова лягушки, которых он режет, и инфузории, созерцаемые им под микроскопом, имеют смысл лишь в перспективе его целей: он хочет их резать или препарировать, чтобы узнать,
«что у нее там внутри делается». Каковы ее собственные цели и входит ли в них перспектива быть «распластанной», ему безразлично. Ему безразличен и внутренний смысл природы. Слова: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» - принципиально игнорируют внутренний - свой - смысл природы. Базаров стремится насильственно подчинить ее своим целям. А природа игнорирует цели Базарова и своим вторжением превращает его планы в бессмыслицу. «Стариков Кирсановых» Базаров рассматривает таким же взором, как Павел Петрович инфузорию, и их поведение представляется ему, естественно, бессмысленным. Но поведение Базарова бессмысленно для мужика, видящего в нем «шута горохового».
У Тургенева, который, как уже было сказано, выступает как демифологизатор по отношению к романным схемам своего времени, имеется своя мифология. Сюжеты его произведений разыгрываются - и это уже неоднократно отмечалось - в трех планах: во-первых, это современно- бытовой, во-вторых, архетипический и, в-третьих, космический.
Первый план реализует коллизии, в которых автор стремится отразить наиболее животрепещущие аспекты современности. Здесь его интересуют типы, в которых он видит воплощение тенденций бурлящей вокруг него жизни и старается быть предельно злободневным.
Второй план раскрывает в новом старое или, вернее, вечное. Типы современности оказываются лишь актуализациями вечных характеров, уже созданных великими гениями искусства. Злободневное оказывается лишь
кажимостью, а вечное - сущностью. И если в первом случае сюжет развивается как отношение персонажей между собой, то во втором - как отношение персонажей к их архетипам, текста - к тому, что стоит за ним.
Третий план - космический, природный. С его точки зрения оба предшествующих бессмысленны. Своим присутствием он «отменяет» их.
Реализуется он как смерть. В тексте его носитель - конец.
Последовательное вторжение одного плана в другой меняет мотивировки, показывает случайное как закономерное, а кажущееся закономерным разоблачает как «человеческий балаган».
Так, Харлов думает, что действует по своей воле, доводя ее даже до крайности своеволия. Однако на самом деле он лишь реализует волю ищущего воплотиться короля Лира. Но и действующий в Харлове Лир несвободен - он марионетка в руках вороного коня, Смерти, отменяющей все расчеты.
Проза Тургенева своим глубинным пластом идет в ином русле, чем ведущие тенденции русского романа XIX в. И этот пласт предсказывал прозу
Апухтина и русских символистов. Однако другие пласты повествовательной прозы Тургенева не только развивались «в русле века», но во многом были понятнее читателю, чем сложные структуры романов Толстого и
Достоевского. Это определило своеобразный феномен. Тургенев читался как бы на нескольких уровнях: одни читатели сосредоточивали внимание на злободневном изображении идейных конфликтов и считали возможным «не замечать» концовки или относить их за счет «непоследовательности» автора.
Так, например, Писарев считал смерть Базарова легко элиминируемым элементом сюжета, лишь искажающим правдивость романа. В отношении персонажей к архетипам можно было усматривать литературную полемику
(например, с романтизмом). Структура расслаивалась, и различные ее уровни имели различную историко-литературную судьбу.
На самом же деле Тургенев составлял своими романами и повестями необходимое дополнение к единому и едино-различному целому, которое называется русской прозой XIX в., дорисовывая ее сюжетное пространство.
1987
Для того чтобы представить себе, как влияет «активность вещей» на построение сюжета, сопоставим, с этой точки зрения, театр и кинематограф. В театре вещь - реквизит, обстоятельство или объект поступка. Она пассивна и не имеет «своей воли». В кинематографе вещи наделяются самостоятельностью поведения и приобретают свойства личности, становясь иногда субъектом действия. В одном из ранних фильмов братьев Люмьер зрители были поражены тем, что на заднем фоне деревья колышутся от ветра: они привыкли к неподвижным декорациям. Движущиеся деревья как бы становятся действующими лицами.
В кинематографе, как и в романе, носителями сюжетного развития становятся персонажи (включая в эту категорию образы людей, вещей, социокультурные символы и знаки и т. п.), обладающие способностью к активному поведению, совершению поступков. Поступок же определяется как действие, не (или не до конца) запрограммированное какой-либо внешней силой, а являющееся результатом внутреннего волевого импульса, с помощью которого персонаж совершает выбор действия. Персонаж как элемент сюжета всегда обладает внутренней свободой и, следовательно, моральной ответственностью. Таким образом, с одной стороны, совершается отбор людей, способных играть в романе роль сюжетных персонажей, а с другой - разнообразные силы отчужденного общества, символически воплощаясь в вещах и знаках (ср. образы шагреневой кожи у Бальзака или Носа у Гоголя), приобретают статус такого же рода.
Сказанное связано с тем, что элементы текста - наименования предметов, действий, имена персонажей и пр. - попадают в структуру данного сюжета, уже будучи отягчены предшествующей социально-культурной и литературной семиотикой. Они не нейтральны и несут память о тех текстах, в которых встречались в предшествующей традиции. Вещи - социокультурные знаки - выступают как механизмы кодирования, отсекающие одни сюжетные возможности и стимулирующие другие. Каждая «вещь» в тексте, каждое лицо и имя, т. е. все, что сопряжено в культурном сознании с определенным значением, таит в себе в свернутом виде спектр возможных сюжетных ходов. На пересечении этих потенциальных возможностей возникает исключительное богатство трансформаций и перекомбинирования сюжетных структур, определяемых традициями жанра в их взаимодействии с «сюжетами жизни». Создается исключительно емкая динамическая система, дающая писателю неизмеримо бо́льшие сюжетные возможности, чем сказочнику.
Если к этому добавить особенности романного слова, глубоко проанализированные M. M. Бахтиным и открывающие почти неограниченные возможности смыслового насыщения , то сделается понятным ощущение сюжетной безграничности, которое вызывает роман у читателя и исследователя, характерный для жанра «живой контакт с неготовой, становящейся современностью (незавершенным настоящим)»
Структуру, которую можно себе представить как совокупность всех текстов данного жанра, всех черновых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возможных в данном культурно-литературном континууме, но никому не пришедших в голову сюжетов, мы будем называть сюжетным пространством.
Резко возрастающее в XIX в. разнообразие сюжетов привело бы к полному разрушению повествовательной структуры, если бы не компенсировалось на другом полюсе организации текста тенденцией к превращению больших блоков повествования и целых сюжетов в клише. Пристальный анализ убеждает, что безграничность сюжетного разнообразия классического романа, по сути дела, имеет иллюзорный характер: сквозь него явственно просматриваются типологические модели, обладающие регулярной повторяемостью. Закон, нарушение которого делает невозможной передачу информации, подразумевающий, что рост разнообразия и вариативности элементов на одном полюсе обязательно должен компенсироваться прогрессирующей устойчивостью на другом, соблюдается и на уровне романного сюжетостроения. При этом непосредственный контакт с «неготовой, становящейся современностью» парадоксально сопровождается в романе регенерацией весьма архаических и отшлифованных многими веками культуры сюжетных стереотипов. Так рождается глубинное родство романа с архаическими формами фольклорно-мифологических сюжетов.
В силу уже отмеченной проницаемости сюжетного пространства романа для внеположенной ему культурной семиотики, разные типы культуры характеризуются различными сюжетными пространствами (что не отменяет возможности выделить при генетическом и типологическом подходе сюжетные инварианты). Поэтому можно говорить об историко-эпохальном или национальном типах сюжетного пространства. В данном случае нас будет интересовать русский роман XIX в.
Объект этот тем более интересен, что генетически сюжетика русского романа XIX в. восходит к европейской, и еще в XVIII столетии она строится практически по одним и тем же схемам. Национальное своеобразие остается в пределах бытовой окраски действия, но не проникает еще в самое структуру сюжета. Создание «русского сюжета» - дело Пушкина и Гоголя. Попробуем проследить трансформацию лишь некоторых сюжетных схем, не претендуя на исчерпывающее описание «сюжетного пространства».
Для русского романа XIX в. актуальными оказываются некоторые глубинные мифологические модели. Проследим, как складывается эта специфическая «мифология» сюжетов.
Мы уже отмечали, что особенностью сюжетообразующего персонажа являются его активность и относительная свобода по отношению к обстоятельствам .
Это привело к тому, что определенные черты сюжетообразующих персонажей были унаследованы от эпохи романтизма. В романтической поэтике активный герой, строитель сюжета, был героем зла. Именно он - демон, падший ангел - присваивал себе свободу нарушать установленные Богом законы. Активность мыслилась как активность злой воли. Аморальный в глазах толпы, герой, однако, был не аморален, а внеморален. Ценой безграничного одиночества он покупал величие и право быть выше нравственного суда других людей.
В русской литературе 1820-х гг. персонаж этот переживал существенные трансформации. С одной стороны, романтический герой сближался с центральным персонажем элегии. Ему придавались черты «преждевременной старости души» (Пушкин). Одновременно он терял волевые импульсы и переставал быть, в отличие от героев Байрона, персонажем активного действия. Следствием этого являлось резкое ослабление сюжетности русской романтической поэмы. Для Пушкина это было сознательным художественным решением, хотя он в наброске письма к Гнедичу с лукавым самоуничижением писал, что в «Кавказском пленнике» «простота плана близко подходит к бедности изобретения» (XIII, 371). Само это письмо, в котором поэт развертывает не использованные им сюжетные возможности, говорит о намеренной ориентации на бессюжетность. Причем Пушкин прямо мотивирует это характером своего героя, потерявшего чувствительность сердца (там же). Характерно, что 14-летний Лермонтов, не зная письма Пушкина, ввел в свою версию «Кавказского пленника» именно те сюжетные варианты, которые автор поэмы отверг. Лермонтов тяготел к сюжетным стереотипам байронической поэмы, Пушкин же исходил из того, что «характер главного героя <…> приличен более роману нежели поэме» (там же).
Однако в русской романтической поэзии 1820-х гг. наметился и активный герой.
Для Тургенева именно героизм утверждает неизбежность обессмысливающей его концовки. Герой, чья жизнь не имеет смысла, в произведениях Тургенева не умирают.
Эффект бессмысленности возникает при взгляде «из другого мира», с точки зрения наблюдателя, не понимающего или не принимающего мотивировок, целей и логики того мира, в который он врывается или который он наблюдает. Когда Кирсанов «раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того, чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле», с позиции вне находящегося и безразлично созерцающего наблюдателя то, что «для себя» осмысленно, становится бессмысленным, Но не только для Павла Петровича, а, по сути дела, и для Базарова лягушки, которых он режет, и инфузории, созерцаемые им под микроскопом, имеют смысл лишь в перспективе его, Базарова, целей: он хочет их резать или препарировать, чтобы узнать, чтобы посмотреть, «что у нее там внутри делается». Каковы ее собственные цели и входит ли в них перспектива быть «распластанной», ему безразлично. Ему безразличен и внутренний смысл природы. Слова: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», принципиально игнорируют внутренний - Свой - Смысл природы. Базаров стремится насильственно подчинить ее своим целям. А природа игнорирует цели Базарова и своим вторжением превращает все его планы в бессмыслицу. «Стариков Кирсановых» Базаров рассматривает таким же взором, как Павел Петрович инфузорию, и их поведение представляется ему, естественно, бессмысленным. Но и поведение - Базарова - бессмысленно для мужика, видящего в нем «шута горохового».
Постоянное вторжение природы с ее законом смерти и рождения, вытеснения старого молодым, слабого сильным, тонкого грубым и с ее равнодушием к человеческим целям и идеалам, ко всему, что организует человеческую жизнь, делает эту последнюю бессмысленной и, следовательно, трагической. Но это не высокая трагедия смысла, а безнадежная трагедия бессмыслицы.
У Тургенева, который, как уже было сказано, выступает как демифологизатор по отношению к романным схемам своего времени, имеется своя мифология. Сюжеты его произведений разыгрываются - и это уже неоднократно отмечалось - в трех планах: во-первых, это современно-бытовой план, во-вторых, архетипический и, в-третьих, космический.
Первый план. реализует коллизии, в которых автор стремится отразить наиболее животрепещущие аспекты своей современности. Здесь его интересуют Типы, В которых он видит воплощение тенденций бурлящей вокруг него жизни и старается быть предельно злободневным.
Второй план раскрывает в новбм старое или, вернее, вечное. Типы современности оказываются лишь актуализациями вечных характеров, уже созданных великими гениями искусства. Злободневное оказывается лишь кажимостью, а вечное - сущностью. И если в первом случае сюжет развивается как отношение персонажей между собой, то во втором - как отношение персонажей к их архетипам, текста - к тому, что стоит за ним.
Третий план - космический, природный. С его точки зрения, оба предшествующих бессмысленны. Своим присутствием он «отменяет» их. Реализуется он как смерть. В тексте его носитель- конец... Тургенев читался как бы на нескольких уровнях: одни читатели сосредоточивали внимание на злободневном изображении идейных конфликтов и считали возможным «не замечать» концовки или относить их за счет «непоследовательности» автора. Так, например, Писарев считал смерть Базарова легко элиминируемым элементом, лишь искажающим правдивость романа. В отношении персонажей к архетипам можно было усматривать литературную полемику (например, с романтизмом). Структура расслаивалась, и различные ее уровни имели различную историко-литературную судьбу...
В. Недзвецкий
Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Проза Тургенева и сюжетное пространство русского романа XIX столетия . И в закладках появилось готовое сочинение.Гоголь, конечно, не собирался просто пересказать пушкинский сюжет своими словами: весьма интересны не только совпадения, но и несовпадения, позволяющие судить о глубине различий между творческим миром Пушкина и Гоголя. Наиболее тесное соприкосновение пушкинского замысла и гоголевского воплощения сохранилось в фигуре Ф. Орлова - капитана Копейкина. Образ Копейкина постепенно приспосабливался к цензурным условиям, сначала в порядке автоцензуры, потом - в результате давления на автора требований цензора Никитенко. В этом отношении наибольший интерес представляют ранние редакции. В них Копейкин сохраняет черты, сближающие его с Дубровским: Копейкин оказывается не просто атаманом разбойников, а главой огромного отряда («словом, сударь мой, у него просто армия [какая-нибудь]») 1. Особое место Копейкина в ряду разбойников - народных мстителей в литературе тех лет в том, что его месть целенаправленно устремлена на бюрократическое государство: «По дорогам никакого проезда нет, и все это, понимаете, собственно, так сказать, устремлено на одно только казенное. Если проезжающий по какой-нибудь, т. е. своей надобности - ну, спросит только, зачем - да и ступай своей дорогой. А как только какой-нибудь фураж казенный, провиянт или деньги, словом, [можете себе представить] все, что носит, так сказать, имя казенное, спуску никакого. Ну, можете себе представить, казне изъян ужасный» 2.
Обращает на себя внимание, что во всем этом эпизоде нелепые обвинения, которые выдвигаются в адрес Чичикова, странные применительно к этому персонажу, близко напоминают эпизоды «разбойничьей» биографии Ф. Орлова в замыслах Пушкина: и тот и другой (один в воображении губернских дам, другой, по замыслу Пушкина, вероятно, отражающему некоторую реальность) похищает девицу. Деталь эта у Пушкина является одной из основных и варьируется во всех известных планах «Русского Пелама», она же делается основным обвинением губернских дам против Чичикова.
Каково же действительное отношение Чичикова к капитану Копейкину? Только ли странная ассоциация идей в голове почтмейстера города N, упустившего из виду, что у Чичикова и руки и ноги - все на месте, оправдывает появление этого персонажа в «Мертвых душах»? Чичиков - приобретатель, образ совершенно новый в русской литературе тех лет. Это не означает, что у него нет литературных родственников. Проследим, какие литературные имена вспоминаются в связи с Чичиковым или какие ассоциации в поэме он вызывает, не отличая пока серьезных от пародийных (пародийная ассоциация - вывернутая наизнанку серьезная).
1. Чичиков - романтический герой светского плана. Чичиков «готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины» 3. Подвыпив, он «стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте» 4. К этому же плану героя поэмы относится и письмо к нему неизвестной дамы.
1 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. - Т. VI. - С. 528.
2 Там же. - С. 528-529.
3 Там же. - С. 166.
4 Там же. - С. 152. «Послание Вертера к Шарлотте». - Известны два русских стихотворения на эту тему: В. Туманского и А. Мерзлякова.
2. Чичиков - романтический разбойник: он врывается к Коробочке, по словам дамы, приятной во всех отношениях, «вроде Ринальд Ринальдина». Он - капитан Копейкин, он же разбойник, бежавший в соседней губернии от законного преследования, он же делатель фальшивых ассигнаций.
3. Чичиков - демоническая личность, он Наполеон, которого «выпустили» «с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.
Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицмейстер, который служил в кампанию 12 года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже, нельзя сказать, чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок» 1.
4. Чичиков - антихрист. После уподобления Чичикова Наполеону следует рассказ о предсказании «одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепи и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог» 2.
1 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. - Т. VI. - С. 206.
2 Там же.
Если оставить пока в стороне последний пункт, то можно отметить следующее: в образе Чичикова синтезируются персонажи, завещанные пушкинской традицией: светский романтический герой (вариант - денди) и разбойник. Причем уже Пушкин наметил возможность слияния этих образов в облике рыцаря наживы, стяжателя и демонического эгоиста Германна. Описание сходства Чичикова с Наполеоном - пародийная цитата соответствующего места из «Пиковой дамы»: у Германна «профиль Наполеона»; «он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона» (VIII, 1, 244, 245).
Чичиков окружен литературными проекциями, каждая из которых и пародийна и серьезна: новый человек русской действительности, он и дух зла, и светский человек, и воплощенный эгоист, Германн, рыцарь наживы, и благородный (грабит, как и Копейкин, лишь казну) разбойник. Синтезируя все эти литературные традиции в одном лице, он одновременно их пародийно снижает. Однако дело не ограничивается литературной пародией: Гоголь неоднократно подчеркивал, что обыденное и ничтожное страшнее, чем литературное величественное зло. Чичиков антизлодей, анти-герой, анти-разбойник, человек, лишенный признаков («ни толстый, ни тонкий»), оказывается истинным антихристом, тем, кому предстоит завоевать весь свет. Он знаменует время, когда порок перестал быть героическим, а зло - величественным. Впитав в себя все романтические образы, он всех их обесцветил и обесценил. Однако в наибольшей мере он связан с Германном из «Пиковой дамы». Подобно тому, как сущность Дубровского и утопизм этого образа раскрывались проекцией на Гринева<--> Швабрина, с одной стороны, и Пугачева - с другой, Германн разлагался на Пелама и Ф. Орлова, начало культуры и начало денег, обмана, плутней и разбоя. Чичиков сохранил лишь безнадежную прозу авантюризма ради денег. И все же связь его с разбойником глубока и органична. Не случайно фамилия Копейкина невольно ассоциируется с основным лозунгом его жизни: «Копи копейку». Гимн копейке - единственное родовое наследство Чичикова: «Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» 1 . Видимо, именно ассоциация, вызванная звучанием фамилии (а Гоголь был на это очень чуток) 2, привлекала внимание Гоголя к песням о разбойнике Копейкине. Песни о «воре Копейкине» в записях П. В. Киреевского были известны Гоголю 3. Вполне вероятно, что хотя достоверных сведений об атамане Копейкине не было ни у собирателей 4, ни у Гоголя, однако Гоголю могла быть известна устная легенда о солдате Копекникове (конечно, искаженная при записи на французском языке фамилия «Копейкин»), который сделался разбойником «поневоле», получив от Аракчеева отказ в помощи и отеческое наставление самому позаботиться о своем пропитании 5.
1 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. - Т. VI. - С. 225.
2 Ср. этимологизацию фамилий Завалишина, Полежаева, Сопикова и Храповицкого (VI, 190) в связи с семантикой сна.
3 См.: Собрание народных песен П. В. Киреевского. - Л., 1977. - Т. 1. - С. 225-226 и 302.
4 «Кто и когда был вор Копейкин?» - спрашивал Киреевский Языкова (см.: Письма П. В. Киреевского к Н. М. Языкову. - М.; Л., 1935. - С. 63; публикатор М. К. Азадовский не прокомментировал этого имени).
5 Текст этого «анекдота» был опубликован в «Revue des etudes franco-russes». - 1905. - № 2.
Герой народных песен разбойник Копейкин, солдат «Копекников», прогнанный Аракчеевым, Ф. Орлов - инвалид-герой 1812 г., сделавшийся разбойником, сложно влились в образ капитана Копейкина. Существенна еще одна деталь отношения Копейкина к Чичикову: Копейкин - герой антинаполеоновских войн и Наполеон - две антитетические фигуры, в совокупности характеризующие героико-романтическую эпоху 1812 г. Синтез и пародийное измельчание этих образов порождают «героя копейки» Чичикова. Можно было бы вспомнить, что и Пушкин связывал наполеоновскую эпоху и денежный век как два звена одной цепи:
Преобразился мир при громах новой славы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры... (III, 1, 219).
Синтетическое отношение Чичикова к предшествующей литературной традиции не отменяет, однако, принципиальной новизны этого характера. Чичиков задуман как герой, которому предстоит грядущее возрождение. Способ мотивировки самой этой возможности ведет нас к новым для XIX в. сторонам гоголевского художественного мышления. Злодей в просветительской литературе XVIII в. сохранял право на наши симпатии и на нашу веру в его возможное перерождение, поскольку в основе его личности лежала добрая, но извращенная обществом Природа. Романтический злодей искупал свою вину грандиозностью своих преступлений, величие его души обеспечивало ему симпатии читателя. В конечном счете, он мог оказаться уклонившимся с пути ангелом или даже мечом в руках небесного правосудия. Гоголевский герой имеет надежду на возрождение потому, что дошел до предела зла в его крайних - низких, мелочных и смешных - проявлениях. Сопоставление Чичикова и разбойника, Чичикова и Наполеона, Чичикова и антихриста делает первого фигурой комической, снимает с него ореол литературного благородства (параллельно проходит пародийная тема привязанности Чичикова к «благородной» службе, «благородному» обращению и пр.). 1 Зло дается не только в чистом виде, но и в ничтожных его формах. Это уже крайнее и самое беспросветное, по мнению Гоголя, зло. И именно в его беспросветности таится возможность столь же полного и абсолютного возрождения. Такая концепция связана органически с христианством и составляет одну из основ художественного мира «Мертвых душ». Это роднит Чичикова с героями Достоевского.
Аналогия между Германном (Наполеон + убийца, разновидность разбойника) и Раскольниковым (та же комбинация признаков, дающая в итоге образ человека, вступившего в борьбу с миром богатства и стремящегося этот мир подчинить) уже обращала на себя внимание. Менее бросается в глаза связь этих образов с Чичиковым. Достоевский, однако, создавая Раскольникова, бесспорно, может быть, подсознательно, имел в виду героя «Мертвых душ». 2
1 То, что герои этого плана вступают в борьбу с Золотом, стремясь подчинить его, придает им еще один признак - рыцарства. Это качество имеет тенденцию раздваиваться на рыцаря - Дон Кихота (Костанжогло, Штольц) и Барона из «Скупого рыцаря». Через Плюшкина этот последний также сопоставлен с Чичиковым.
2 См.: Белый Андрей. Мастерство Гоголя. - М.; Л., 1934. - С. 99-100.
Антитеза «денди - разбойник» оказывается весьма существенной для Достоевского. Иногда она выступает обнаженно (например, в паре: Ставрогин <--> Федька; вообще, именно потому, что Ставрогин рисуется как «русский джентльмен», образ его подключается к традиции персонажей двойного существования, являющихся то в светском кругу, то в трущобах, среди подонков), иногда в сложно трансформированном виде 1.
1 Подробнее см. в главе «Сюжетное пространство русского романа XIX столетия».
Такое распределение образов включено в более широкую традицию: отношение «джентльмен <--> разбойник» одно из организующих для Бальзака (Растиньяк <--> Вотрен), Гюго, Диккенса. В конечном счете оно восходит к мифологической фигуре оборотня, ведущего днем и ночью два противоположных образа жизни, или мифологических двойников-близнецов. Имея тенденцию то распадаться на два различных и враждебных друг другу персонажа, то сливаться в единый противоречивый образ, этот архетип обладает огромной потенциальной смысловой емкостью, позволяющей в разных культурных контекстах наполнять его различным содержанием, при одновременном сохранении некоторой смысловой константы.
Кочуют вороны,
Кружат кусты.
Вслед эскадрону
Летят листы 1.
1 Багрицкий Эдуард. Собр. соч.: В 2 т. - М; Л., 1938. - Т. 1. - С. 588.
Подобное построение текста станет понятным, если мы представим себе передвигающегося наблюдателя. При бескрайности (отмечена не граница, а безграничность) пространства передвижение наблюдателя будет проявляться как движение неподвижных предметов, заполняющих простор. Действительно, особенно ярко этот признак проявляется у Гоголя при наблюдении пейзажа из динамического центра. При этом интенсивность глаголов движения - предикатов, приписываемых неподвижным предметам (сам наблюдающий находится в движении, но кажется себе неподвижным), находится в соответствии со скоростью передвижения центра: «Ему чудилось, что всё со всех сторон бежало ловить его: деревья, обступивши темным лесом, и как будто живые, кивая черными бородами и вытягивая длинные ветви, силились задушить его; звезды, казалось, бежали впереди перед ним, указывая всем на грешника; сама дорога, чудилось, мчалась по следам его. Отчаянный колдун летел в Киев...» (I, 276). В «Мертвых душах»: «Летит мимо всё, что ни есть на земли» (VI, 247); в письмах: «Однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы» (X, 239).
Таким образом, нам пришлось ввести понятие «точки зрения». Оно нам пригодится и в дальнейшем.
Поскольку граница «фантастического» пространства в принципе заменена безграничностью («преобращая всё в неопределенность и даль» - I, 153), оно не может характеризоваться в смысле величины абсолютными показателями и поэтому, казалось бы, не должно иметь градаций. Однако разные типы как замкнутых, так и неограниченных пространств «Вечеров», будучи взаимно противопоставленными, располагаются внутри каждой группы по степени интенсивности признака «замкнутость - разомкнутость». Это приводит и к необходимости его градации. Гоголь вводит интересную относительную градацию: чем интенсивнее фантастичность пространства, тем - относительно к другим - оно безмернее: «Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее» (там же. - С. 159). Однако построение такого сверхраспространенного пространства требует особой позиции наблюдателя, и Гоголь решает вопрос, вынося «точку зрения», с которой строится описание пейзажа, вертикально вверх и переходя тем самым к трехмерному пространству. Все обилие волшебных полетов, неожиданных вознесений вверх служит созданию особых, неожиданно расширенных пространств. Вот полет деда на «сатанинском животном» в «Пропавшей грамоте»: «Глянул как-то себе под ноги - и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная!» (там же. - С. 190). В «Заколдованном месте» - «под ногами круча без дна» (там же. - С. 314), причем это на ровном - в бытовом пейзаже - месте. Провалы и горы составляют рельеф «Страшной мести», причем там, где в этом произведении Гоголь, по условиям сюжета, не может поднять наблюдателя над землей, он искривляет самую поверхность земли, загибая ее края (не только горы, но и море!) вверх.
Мы еще увидим, какую большую роль вид сверху будет играть в «Вие», «Тарасе Бульбе» и «Мертвых душах».
Таким образом, нормальным состоянием волшебного пространства становится непрерывность его изменений: оно строится, исходя из подвижного центра, и в нем все время что-то совершается. В противоположность ему, бытовое пространство коснеет, по самой своей природе оно исключает движение. Если первое, будучи неограниченно большим, в напряженные моменты еще увеличивается, то второе отграничено со всех сторон, и граница эта неподвижна.
Оба типа пространства не только различны - они противоположны, составляя в системе «Вечеров» оппозиционную пару, исчерпывающую весь круг возможных видов художественного пространства. Размещающиеся в этих пространствах герои могут или принадлежать одному из них, или переходить из одного в другое, или попеременно появляться то в том, то в другом.
Каждому пространству соответствует особый тип отношений функционирующих в нем персонажей. Правда (возможно, под влиянием того, что в сознании Гоголя столь различные по художественному языку системы, как волшебная и бытовая сказка, объединялись в одну систему «народная поэзия», куда входили и другие жанры эпической и лирической народной поэзии), описанное нами разделение пространства проводилось с известной непоследовательностью. Так, в «Ночи перед Рождеством» поведение чертей и ведьм строится еще по тем же законам, что и бытовое поведение людей, а момент полета не связан с расширением и деформацией земного пространства (более того, точка зрения повествователя не совмещена с летящим Вакулой, а неподвижна и находится на земле; ср.: «Пролетел как муха под самым месяцем», где летящий кузнец - не точка зрения, а объект наблюдения, которое направлено снизу вверх). Эти особенности «Ночи перед Рождеством», совпадая с некоторыми другими чертами этого произведения, поддерживают текстологическое наблюдение Н. С. Тихонравова о том, что «повесть была вписана автором в эту записную книгу ранее всех предшествующих ей набросков», возможно, в 1830 г.
Возникшая в тексте «Вечеров» система пространственных отношений оказалась в достаточной мере мощной моделирующей системой, которая способна отделяться от своего непосредственного содержания и становиться языком для выражения вне-пространственных категорий. Так, пространственная разделенность, взаимонепроницаемость, вещность наметили средства выражения столь существенной для Гоголя на следующем этапе идеи разобщенности, некоммуникабельности людей в замкнутом мире. Явно ощущается в «Вечерах» стремление Гоголя выражать в пространственных категориях и этико-эстетические оценки. Так, бытовое не может быть величественным, фантастическое не может быть ничтожным и т. д. Правда, здесь не наблюдается полной противопоставленности групп: пространство бытовое может быть только комическим (трагедия всегда связана с вторжением в него чуждых отношений), а пространство волшебное - и трагическим, и комическим.
Однако нас не должно обескураживать то, что категории языка пространства не описывают всего текста «Вечеров» и что далеко не все семантические поля текста разбиваются на группы с легко устанавливаемой взаимной эквивалентностью. То, что мы называем языком художественного произведения, на самом деле представляет собой совокупность языков. Художественный текст представляет собой как бы хор, одновременно говорящий на многих языках. Отношения между ними могут быть различными: какой-либо один может занимать доминантное положение, навязывая свою систему моделирования всем другим. Однако языки могут и различаться или даже взаимопротиворечить друг другу, образуя контрапунктное построение.
Создание «Миргорода», а также циклизация другой группы повестей вокруг Петербурга определили особое значение пространственных представлений в творчестве Гоголя этих лет. «Миргород» в этом отношении особо примечателен. Пушкин в «Евгении Онегине» говорил об особом «деревенском» чувстве времени:
...Люблю я час
Определять обедом, чаем
И ужином. Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок - верный наш брегет (VI, 113).
Гоголь начинает «Миргород» с декларации особой «деревенской» географии. Рядом стоят два эпиграфа - из географии Зябловского: «Миргород нарочито невеликий при реке Хороле город. Имеет 1 канатную фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 ветряных мельниц» - и «Из записок одного путешественника»: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны». Сопоставление двух различных определений одного и того же создает целый ряд дополнительных значений: тут и ироническое сопоставление карамзинистской формулы «Из записок одного путешественника» с содержанием, а содержания - с тоном и синтаксисом самой записи, и выделение двух точек зрения на понятие достопримечательности, и многое другое. Однако нельзя не заметить, что эпиграфы, давая две различные точки зрения на понятие географического пространства («что такое Миргород?»), тем самым приковывают внимание к этой категории. Система пространственных отношений в «Миргороде» вырастает из «Вечеров», но гораздо более сложна и разработана.
В «Старосветских помещиках» структура пространства становится одним из главных выразительных средств. Все художественное пространство разделено на две неравные части. Первая из них - почти не детализованная - «весь остальной» мир. Она отличается обширностью, неопределенностью. Это - место пребывания повествователя, его пространственная точка зрения 1. «Я отсюда вижу низенький домик» (II, 13); «я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни» (там же) ; «я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то <...> очутился бы лежащим на столе» (там же. - С. 27; разрядка моя. - Ю. Л.). Вторая - это мир старосветских помещиков. Главное отличительное свойство этого мира - его отгороженность. Понятие границы, отделяющей это пространство от того, обладает предельной отмеченностью, причем весь комплекс представлений Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны организован этим разделением, подчинен ему. То или иное явление оценивается в зависимости от расположения его по ту или по эту сторону пространственной границы. Жилище старосветских помещиков - особый мир с кольцеобразной топографией, причем каждое из колец - это особый пояс границы, которая чем ближе к центру, тем недоступнее для внешнего мира. Пейзаж и все предметы на местности строятся по плану концентрических кругов: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами» (II, 13). Итак, сначала кольцо изб, имеющее границей кроны деревьев, затем сад с границей-плетнем и дворик с частоколом. Защитный характер имеет и - тоже концентрическая - граница: «лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки» (там же. - С. 14). Затем - дом, окруженный галереей. Галерея, как и каждая граница, создает полосу недоступности для определенных сил. Через пояс «деревня - сад - лай» не проникают чужие (т. е. «злые») люди, галерея непроницаема для дождя. Она идет «вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем» (там же. - С. 13).
1 Вопрос о «точке зрения» как некотором текстообразующем структурном принципе впервые был поставлен Г. А. Гуковским.
Следующий пояс - поющие двери, которые должны не допускать холод. Не случайно наружная издает «странный дребезжащий и вместе стонущий звук <...> «батюшки, я зябну!» (там же. - С. 18) - она граница между внешним холодом и внутренним теплом («комнатки эти были ужасно теплы»). Любые свойства атрибутируются или внешнему, или внутреннему пространству и в зависимости от этого получают свою оценку. Парная оппозиция внешнего и внутреннего пространства выступает как трансформация оппозиции «волшебное - бытовое» пространство «Вечеров».
Внешнее пространство обладает некоторыми интересными свойствами. Во-первых, оно далекое, в отличие от внутреннего, которое наделено признаком близости. Интересно, что, вопреки общепринятому, категория «близкого - далекого» представляет собой постоянный признак и не соотносится с расстоянием от того места, где находится говорящий. Фраза: «Я отсюда вижу низенький домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков» - всей детализацией в описании «домика» и всем последующим изложением утверждает его как «близкий», а место пребывания «я» - как далекое. Развитием такого построения будет знаменитое: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу...» (VI, 220). Поместье Товстогубов обладает еще одним свойством: оно «свое», а то, что лежит за его пределами, - «чужое». Причем снова это свойство не относительно: оно характеризует пространство старосветских помещиков как таковое, а не только в отношении к его непосредственным владельцам. Не случайно, когда автор заезжал к старосветским помещикам, «лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой» (II, 14). Это не случайно: поместье старосветских помещиков и есть Дом с большой буквы. Обитатели его не считали пространство, ограниченное деревьями, плетнем, частоколом, галереей, поющими дверьми, узкими окнами, теплотой и уютом, одним из многих подобных гнезд (так смотрит автор), - все за пределами внутреннего мира есть для старосветских помещиков мир внешний, наделенный полностью противоположными их поместью качествами. Для Пульхерии Ивановны расположение мебели в ее комнате - это не расположение мебели в ее комнате, а Расположение Мебели в Комнате. Это замечательно выражено в том, как она аттестует гостю водку, перегнанную на персиковых косточках: «Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкапа или стола, и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом - и всё как рукой снимет» (там же. - С. 26). Она не допускает даже мысли, чтобы стол и шкап стояли иначе, чем в тех комнатах, в которых она живет: не создавая угрозы для встающего с кровати, а каким-либо другим образом.
Радушие, гостеприимство и доброжелательность также являются постоянным свойством этого «домашнего» пространства. Законом внутреннего мира является уют.
Безграничный внешний мир образует не продолжение (количественное увеличение) расстояний внутреннего, а пространство иного типа: возвращение гостя к себе домой («гость обыкновенно жил в трех или четырех от них верстах») не отличается от самого продолжительного путешествия - это «дальняя дорога» (там же. - С. 25), выход в другой мир. Этот мир не изображается уже автором в виде волшебно-фантастическом, но для старосветских помещиков он продолжает оставаться мифологическим пространством. Он отгорожен, как в сказке, лесом («за садом находился у них большой лес», там же. - С. 28), там живут таинственные дикие коты - «никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах» (там же. - С. 29), там кошечка Пульхерии Ивановны «набралась романтических правил» (ср. романтическую антитезу домашнего уюта и мятежных странствий в «Гансе Кюхельгартене»). В отличие от уюта и безопасности - законов внутреннего мира, внешний населен опасностями и вызывает у обитателей внутреннего настороженность и тревогу: там бывают «всякие случаи» (во внутреннем мире «случаев» не бывает) - «нападут разбойники или другой недобрый человек» (там же. - С. 25). Нельзя сказать, чтобы внешний мир вызывал у обитателей внутреннего ужас или сильные неприязненные чувства. Они даже с интересом и доброжелательством слушают вести из него, но настолько убеждены в том, что он иной, что известия о нем в их сознании неизбежно облекаются в форму мифа (например, разговор о войне с мифологической персонификацией: «француз тайно согласился с англичанином»). Чудесные события во внешнем мире не удивляют старосветских помещиков, зато обыкновенное в нем вызывает их искреннее удивление. Отказ пленной турчанки от свинины не привлекает их внимания на фоне такого удивительного события, как обыденность ее поведения: «Такая была добрая туркеня, и не заметно совсем, чтобы турецкую веру исповедывала. Так совсем и ходит почти, как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено» (там же. - С. 27). Если бы «туркеня» вела себя, как колдун в «Страшной мести», это было бы для Пульхерии Ивановны менее удивительно, чем ее сходство с другими людьми.
Внутренний мир - ахронный. Он замкнут со всех сторон, не имеет направления, и в нем ничего не происходит. Все действия отнесены не к прошедшему и не настоящему времени, а представляют собой многократное повторение одного и того же (прошедшее - время, когда Афанасий Иванович «служил в компанейцах» и «увез довольно ловко Пульхерию Ивановну», - также отнесено в область мифологии и настоящему миру не принадлежит, «об этом уже он очень мало помнил»).
«Не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного. <...> Пульхерия Ивановна обыкновенно бранила виновную» (там же. - С. 18-19). «Как только занималась заря (они всегда вставали рано) и двери заводили свой разногласный концерт, они уже сидели за столиком и пили кофий. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш! пошли, гуси, с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он, по обыкновению, вступал с ним в разговор» (там же. - С. 21). И далее все время нагнетаются глаголы несовершенного вида со значением многократности, подчеркивающие повторяемость действий: «Афанасий Иванович закушивал», «говаривал обыкновенно»; «За обедом обыкновенно шел разговор...» (там же. - С. 22; курсив мой. - Ю. Л.).
Однако в данном случае речь идет не просто об описании событий, многократно происходивших, а о принципе ахронности, о том, что любое, в том числе и однократное, событие в принципе ничего нового не вносит и может еще много раз повториться. В этом смысле удивительно одно место: говорится, что Пульхерия Ивановна лишь однажды «вошла» «в хозяйственные статьи вне двора»; «Один только раз Пульхерия Ивановна пожелала обревизировать свои леса». Однако дальнейшее изложение все идет в форме описания многократных действий. На вопрос Пульхерии Ивановны, отчего дубки сделались такими редкими: «Отчего редки?» - говаривал обыкновенно приказчик <...> пропали! <...> Пульхерия Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду» (там же. - С. 20).
Невозможность совершения событий, невозможность изменения, знакомая нам по «Ивану Федоровичу Шпоньке», приобретает особый смысл. Неизменность - свойство Дома, внутреннего пространства, и изменение возможно лишь как катастрофа разрушения этого пространства. Вера в невозможность этого делает сам вопрос предметом шуток: «Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло, натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем.
«А что, Пульхерия Ивановна», - говорил он: «если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?» (там же. - С. 24).
И когда в мире старосветских помещиков нечто совершается, - происходит катастрофа. Изменение здесь равнозначно гибели. Причем характерно, что происходит оно не как результат внутренней неизбежности; чуждая Дому смерть вторгается извне: как в мифе, она приходит из леса.
Как мы уже отмечали, оппозиция «внутренний мир - внешний мир» «Старосветских помещиков» в определенном отношении соответствует противопоставлению «бытовой - фантастический» в «Вечерах». Однако внутренний мир здесь имеет существенное отличие: он не включает в себя того окостенения, кукольности, скачкообразного перехода от позы к позе, которое было присуще «бытовому» миру «Вечеров». Взятый внутри себя, он лишен некоммуникабельности. Более того, составляющие его персонажи соединены, а не разъединены. И из намеков, разбросанных по тексту повести, видно, что разъединенность, эгоизм, обрыв коммуникаций царят именно во внешнем мире, где живут «чиновник казенной палаты» и те, которые «наполняют, как саранча, палаты и присутственные места» (с. 15), или даже романтический «человек в цвете юных еще сил», «влюбленный нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно», дважды пытавшийся «умертвить себя» после смерти супруги и уже через год весело играющий в карты в обществе молодой жены. Внешний мир не унаследовал от фантастического его поэзии - таинственным и мифическим он представляется только обитателям внутреннего. Напротив, именно в усадьбе Товстогубов нашла прибежище поэзия, изгнанная из холодного внешнего мира. Поэтому в повести фактически две пространственные оппозиции. Для повествователя - большой, холодный и далекий мир «здесь» (Петербург) и теплый маленький мир старосветских помещиков. Для Товстогубов - мифологический внешний и буколический внутренний. Как и всякая буколика, он, будучи для читателей XIX в. парно соотнесен с мифом, противостоит ему бытовизмом, обыденностью, не-фантастичностью. Товстогубы убеждены, что «необыкновенное» происходит вне их мира. Таким образом, для повествователя и для «старичков» поэтическое (таинственное, фантастическое) и прозаическое распределяются по-разному.
- Аннинский Л. А. "Как закалялась сталь" Николая Островского. М.: Художественная литература, 1988. 159 с.
- Багно В. Е. "Коэффициент узнавания" мировых литературных образов // Труды Отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы. Отдел древнерусской литературы. СПб.: Изд-во Академии наук СССР, 1997. Т. 50. С. 234-241.
- Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 361-373.
- Бахтин М. М. Ответ на вопрос редакции "Нового мира" // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 328-335.
- Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 2005. 286 с.
- Гаршин В. М. Сочинения: Рассказы. Очерки, Статьи. Письма. М.: Советская Россия, 1984. 430 с.
- Гончаров И. А. "Мильон терзаний" (критический этюд) // Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8-ми т. М.: Гослитздат, 1955. Т. 8. С. 7-40.
- Гончаров И. А. "Христос в пустыне". Картина г. Крамского // Гончаров И. А. Собрание сочинений: в 8-ми т. М.: Гослитздат, 1955. Т. 8. С. 184-197.
- Гумилевский Л. И. Русские инженеры. М.: Молодая гвардия, 1947. 447 с.
- Завьялова О. С. К проблеме разграничения информативного и генеритивного регистров // Традиции и тенденции в современной грамматической науке: мат-лы I Междунар. конгресса исследователей русского языка "Русский язык: исторические судьбы и современность" / под ред. Г. А. Золотовой. М.: Изд-во Московского ун-та, 2005. С. 178-186.
- Зверева Т. В. Картины И. Н. Крамского в структуре романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" // Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 2012. № 5. Ч. 4. С. 9-13.
- Золотова Г. А. Грамматика композиции // Художественный текст как динамическая система: мат-лы науч. конф., посвященной 80-летию В. П. Григорьева / Институт русского языка РАН (Москва, 19-22 мая 2005 г.). М.: Азбуковник, 2006. С. 164-171.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 1998. 524 с.
- Капица П. Л. Письма о науке. 1930-1980 / сост. П. Е. Рубинин. М.: Московский рабочий, 1989. 400 с.
- Крамской И. Н. Письма: в 2-х т. Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1937. Т. I. 350 с.; Т. II. 492 с.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство СПБ, 1998. C. 14-288.
- Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. О русской литературе: статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литературы. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. C. 712-729.
- Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания: сборник статей / ред. П. А. Гринцер. М.: Наследие, 1994. С. 431-479.
- Островский Н. А. Как закалялось сталь. М.: Детская литература, 1964. 415 с.
- Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи. Ф. 1. Ед. хр. 19.
- Репин И. Е. Далекое близкое. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1960. 510 с.
- Смирнов В. В. Жду и надеюсь: повести. М.: Воениздат, 1977. 520 с.
- Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: Школа "Языки русской культуры", 1995. С. 9-218.