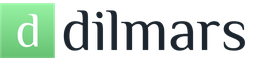Шаламов колымские рассказы посылка анализ. Михаил Михеев
Читается за 10–15 мин
оригинал- за 4−5 ч
Сюжет рассказов В. Шаламова - тягостное описание тюремного и лагерного быта заключённых советского ГУЛАГа, их похожих одна на другую трагических судеб, в которых властвуют случай, беспощадный или милостивый, помощник или убийца, произвол начальников и блатных. Голод и его судорожное насыщение, измождение, мучительное умирание, медленное и почти столь же мучительное выздоровление, нравственное унижение и нравственная деградация - вот что находится постоянно в центре внимания писателя.
На представку
Лагерное растление, свидетельствует Шаламов, в большей или меньшей степени касалось всех и происходило в самых разных формах. Двое блатных играют в карты. Один из них проигрывается в пух и просит играть на «представку», то есть в долг. В какой-то момент, раззадоренный игрой, он неожиданно приказывает обычному заключённому из интеллигентов, случайно оказавшемуся среди зрителей их игры, отдать шерстяной свитер. Тот отказывается, и тогда кто-то из блатных «кончает» его, а свитер все равно достаётся блатарю.
Одиночный замер
Лагерный труд, однозначно определяемый Шаламовым как рабский, для писателя - форма того же растления. Доходяга-заключённый не способен дать процентную норму, поэтому труд становится пыткой и медленным умерщвлением. Зек Дугаев постепенно слабеет, не выдерживая шестнадцатичасового рабочего дня. Он возит, кайлит, сыплет, опять возит и опять кайлит, а вечером является смотритель и замеряет рулеткой сделанное Дугаевым. Названная цифра - 25 процентов - кажется Дугаеву очень большой, у него ноют икры, нестерпимо болят руки, плечи, голова, он даже потерял чувство голода. Чуть позже его вызывают к следователю, который задаёт привычные вопросы: имя, фамилия, статья, срок. А через день солдаты уводят Дугаева к глухому месту, огороженному высоким забором с колючей проволокой, откуда по ночам доносится стрекотание тракторов. Дугаев догадывается, зачем его сюда доставили и что жизнь его кончена. И он сожалеет лишь о том, что напрасно промучился последний день.
Шоковая терапия
Заключённый Мерзляков, человек крупного телосложения, оказавшись на общих работах, чувствует, что постепенно сдаёт. Однажды он падает, не может сразу встать и отказывается тащить бревно. Его избивают сначала свои, потом конвоиры, в лагерь его приносят - у него сломано ребро и боли в пояснице. И хотя боли быстро прошли, а ребро срослось, Мерзляков продолжает жаловаться и делает вид, что не может разогнуться, стремясь любой ценой оттянуть выписку на работу. Его отправляют в центральную больницу, в хирургическое отделение, а оттуда для исследования в нервное. У него есть шанс быть актированным, то есть списанным по болезни на волю. Вспоминая прииск, щемящий холод, миску пустого супчику, который он выпивал, даже не пользуясь ложкой, он концентрирует всю свою волю, чтобы не быть уличённым в обмане и отправленным на штрафной прииск. Однако и врач Петр Иванович, сам в прошлом заключённый, попался не промах. Профессиональное вытесняет в нем человеческое. Большую часть своего времени он тратит именно на разоблачение симулянтов. Это тешит его самолюбие: он отличный специалист и гордится тем, что сохранил свою квалификацию, несмотря на год общих работ. Он сразу понимает, что Мерзляков - симулянт, и предвкушает театральный эффект нового разоблачения. Сначала врач делает ему рауш-наркоз, во время которого тело Мерзлякова удаётся разогнуть, а ещё через неделю процедуру так называемой шоковой терапии, действие которой подобно приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. После неё заключённый сам просится на выписку.
Последний бой майора Пугачева
Среди героев прозы Шаламова есть и такие, кто не просто стремится выжить любой ценой, но и способен вмешаться в ход обстоятельств, постоять за себя, даже рискуя жизнью. По свидетельству автора, после войны 1941–1945 гг. в северо-восточные лагеря стали прибывать заключённые, воевавшие и прошедшие немецкий плен. Это люди иной закалки, «со смелостью, умением рисковать, верившие только в оружие. Командиры и солдаты, лётчики и разведчики...». Но главное, они обладали инстинктом свободы, который в них пробудила война. Они проливали свою кровь, жертвовали жизнью, видели смерть лицом к лицу. Они не были развращены лагерным рабством и не были ещё истощены до потери сил и воли. «Вина» же их заключалась в том, что они побывали в окружении или в плену. И майору Пугачеву, одному из таких, ещё не сломленных людей, ясно: «их привезли на смерть - сменить вот этих живых мертвецов», которых они встретили в советских лагерях. Тогда бывший майор собирает столь же решительных и сильных, себе под стать, заключённых, готовых либо умереть, либо стать свободными. В их группе - лётчики, разведчик, фельдшер, танкист. Они поняли, что их безвинно обрекли на гибель и что терять им нечего. Всю зиму готовят побег. Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто минует общие работы. И участники заговора, один за другим, продвигаются в обслугу: кто-то становится поваром, кто-то культоргом, кто чинит оружие в отряде охраны. Но вот наступает весна, а вместе с ней и намеченный день.
В пять часов утра на вахту постучали. Дежурный впускает лагерного повара-заключённого, пришедшего, как обычно, за ключами от кладовой. Через минуту дежурный оказывается задушенным, а один из заключённых переодевается в его форму. То же происходит и с другим, вернувшимся чуть позже дежурным. Дальше все идёт по плану Пугачева. Заговорщики врываются в помещение отряда охраны и, застрелив дежурного, завладевают оружием. Держа под прицелом внезапно разбуженных бойцов, они переодеваются в военную форму и запасаются провиантом. Выйдя за пределы лагеря, они останавливают на трассе грузовик, высаживают шофёра и продолжают путь уже на машине, пока не кончается бензин. После этого они уходят в тайгу. Ночью - первой ночью на свободе после долгих месяцев неволи - Пугачев, проснувшись, вспоминает свой побег из немецкого лагеря в 1944 г., переход через линию фронта, допрос в особом отделе, обвинение в шпионаже и приговор - двадцать пять лет тюрьмы. Вспоминает и приезды в немецкий лагерь эмиссаров генерала Власова, вербовавших русских солдат, убеждая их в том, что для советской власти все они, попавшие в плен, изменники Родины. Пугачев не верил им, пока сам не смог убедиться. Он с любовью оглядывает спящих товарищей, поверивших в него и протянувших руки к свободе, он знает, что они «лучше всех, достойнее всех». А чуть позже завязывается бой, последний безнадёжный бой между беглецами и окружившими их солдатами. Почти все из беглецов погибают, кроме одного, тяжело раненного, которого вылечивают, чтобы затем расстрелять. Только майору Пугачеву удаётся уйти, но он знает, затаившись в медвежьей берлоге, что его все равно найдут. Он не сожалеет о сделанном. Последний его выстрел - в себя.
Статья выложена на труднодоступном интернет-ресурсе в расширении pdf, дублирую здесь.
Документальная художественность рассказов «Посылка» В.Т. Шаламова и «Саночки» Г.С. Жженова
Статья имеет отношение к теме колымских каторжных лагерей и посвящена анализу документально-художественного мира рассказов «Посылка» В.Т. Шаламова и «Саночки» Г.С. Жженова .
Экспозиция рассказа Шаламова «Посылка» непосредственно вводит в основное событие повествования - получение одним из заключенных посылки: «Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом» . Не случайно звук посылочной фанеры сравнивается со звуком ломающихся колымских деревьев, как бы символизируя два разнополярных модуса человеческой жизни - жизнь на воле и жизнь в заключении. «Разнополярность» явственно ощущается и в другом не менее важном обстоятельстве: пришедший получать посылку зэка замечает за барьером людей «с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме» . Контраст с самого начала ставит непреодолимый барьер между бесправными заключенными и теми, кто стоит над ними, - вершителями их судеб. Отношение «хозяев» к «рабам» тоже отмечено в завязке сюжета, а издевательства над зэка будут варьироваться до конца повествования, образуя своеобразную событийную константу, подчеркивающую абсолютное бесправие рядового обитателя сталинского исправительно-трудового лагеря.
The article deals with the GULAG theme. The author made an attempt to analyse the documentary and fi ction worlds of the two stories.
ЛИТЕРАТУРА
1. Жженов Г.С. Саночки // От «Глухаря» до «Жар-птицы»: повесть и рассказы. - М.: Современник, 1989.
2. Кресс Вернон. Зекамерон XX века: роман. - М.: Худож. лит., 1992.
3. Шаламов В.Т. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1 // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. - М.: Худож. лит., 1998.
4. Шаламов В.Т. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2 // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. - М.: Худож. лит., 1998.
5. Шиллер Ф.П. Письма из мертвого дома / сост., пер. с нем., примеч., послесл. В.Ф. Дизендорфа. - М.: Общест. акад. наук рос. немцев, 2002.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Отметим, что сны о еде, о хлебе не дают голодному арестанту в лагере покоя: «Я спал и по-прежнему видел свой постоянный колымский сон - буханки хлеба, плывущие по воздуху, заполнившие все дома, все улицы, всю землю» .
2. Филолог Ф.П. Шиллер писал семье в 1940 году из лагеря в бухте Находка: «Если вы еще не выслали ботинок и верхней рубашки, то не присылайте, а то я боюсь, что пришлете что-нибудь совершенно неподходящее» .
3. Этот случай Шаламов вспоминает и в «Очерках преступного мира» , и в рассказе «Надгробное слово»: «Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. <…> И я купил в магазине целый килограмм масла. <…> Купил я и хлеба…» .
4. По причине постоянного голода заключенных и изнуряющей тяжелой работы диагноз «алиментарная дистрофия» в лагерях был обычным явлением. Это становилось благодатной почвой для проделывания авантюр невиданных масштабов: «на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения» .
5. Нечто схожее с этим ощущением испытывает герой-повествователь рассказа «Заговор юристов»: «Меня в этой бригаде еще не выталкивали. Здесь были люди и слабее меня, и это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-то» . О человеческой психологии в подобных условиях пишет колымчанин Вернон Кресс: «Нас толкали наши же товарищи, ибо вид дошедшего человека всегда действует раздражающе на более здорового, он угадывает в нем свое собственное будущее и к тому же тянет найти еще более беззащитного, отыграться на нем <...>» .
6. Не только блатари любили театральность, интерес к ней испытывали и другие представители лагерного населения.
Чеслав Горбачевский , Южно-Уральский государственный университет
Жаравина Лариса Владимировна 2006© Л.В. Жаравина, 2006
В. ШАЛАМОВ И Н. ГОГОЛЬ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ПОСЫЛКА»)
Л.В. Жаравина
Сложное, а подчас откровенно негативное отношение Варлама Шаламова к литературной традиции хорошо известно. Считая себя «новатором завтрашнего завтра»1, он подчеркивал: «...я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений... мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей, если я мог предъявить и предъявлял собственный литературный паспорт»2. И в то же время писатель отдавал себе отчет в том, что истинному художнику без опоры на традицию не обойтись, так как повторяется история, следовательно, «любой расстрел тридцать седьмого года может быть повторен»3.
Разумеется, не дело исследователя «ловить» автора на противоречиях, на которые большой художник имеет право. Речь может идти лишь о выработке методов анализа текста, в определенной степени адекватных неординарности и одновременно органичности художественного замысла в широком историко-культурном контексте. И сам Шаламов определил путь, по которому должна направляться исследовательская мысль, обронив фразу: «Рассказ - это палимпсест, хранящий все его тайны»4.
И действительно, литературоведами неоднократно подчеркивалась сложная интертекстуальная игра, стоящая за короткой и звонкой, «как пощечина», фразой Шала-мова, наличие архитепических матриц и символов 5. Однако понятие палимпсеста, восходящее у Шаламова к теории и практике ОПОЯЗа, не вполне тождественно ныне широко распространившемуся интертексту. На наш взгляд, они соотносятся между собой как частное и общее: палимпсест - разновидность интертекста, его специфическая форма, которая, помимо широкой аллюзи-онности, цитатности, диалогичности и прочих хорошо известных характеристик, предполагает четко выраженные структурные особенности произведения. А именно: феномен палимпсеста формируется на основе смыс-
лового самообогащения преимущественно по принципу парадигмы (не синтагмы). Сквозь контуры настоящего проступают контуры иновременного, спиралевидно углубляющие художественный образ. Это похоже на явление вечной мерзлоты (слоеный «пирог» из земли и льда), круги Дантова ада, расположенные винтообразно - один под другим и т. п. В аспекте нашей проблемы целесообразно сослаться на разработанную Ю. Крис-тевой методику семанализа, основанную на акцентировании именно вертикальной «текстообразующей оси»: «“Текст” - будь то поэтический, литературный или какой-либо иной - пробуравливает сквозь поверхность говорения некую вертикаль, на которой и следует искать модели той означающей деятельности, о которых обычная репрезентативная и коммуникативная речь не говорит, хотя их и маркирует...»6. Такую не декларируемую, не прописанную буквально, но тем не менее маркированную, а потому контурно проступающую смысловую вертикаль мы и будем иметь в виду, отмечая «присутствие» Гоголя в колымской прозе Шаламова.
В какой-то мере к шаламовской прозе можно подходить и в свете феномена «белого» («нулевого») письма (Р. Барт), предполагающего отторжение автора от стереотипов при объективной невозможности функционирования вне них. «Вторичная память слова» пронизывает новый материал «остаточными магнитными токами»7. Так и колымская эпопея пишется Шаламовым на не до конца «соскобленных» предтекстах, которые не только оживают в ином историческом и художественном измерениях, но и позволяют перевести язык унижения и уничтожения XX века на язык общечеловеческих понятий.
В качестве примера палимпсеста «с оглядкой» на Гоголя нами выбран небольшой по объему рассказ «Посылка», сюжет которого целесообразно воспроизвести в трех в узловых моментах.
Главный персонаж, от лица которого ведется повествование, получил долгожданную посылку, в которой неожиданно оказались не сахар и материковская махорка, а летчиц-кие бурки и две-три горсти чернослива. Бурки пришлось продать: все равно бы отняли. На вырученные деньги заключенный купил хлеб и масло, хотел разделить трапезу с бывшим референтом Кирова Семеном Шейниным. Но когда тот, обрадовавшись, побежал за кипятком, героя ударили по голове чем-то тяжелым. Очнувшись, он уже не увидел своей сумки. «Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью» (т. 1, с. 25). Снова придя в ларек и выпросив лишь хлеба, заключенный вернулся в барак, «натаял снегу» и, уже ни с кем не делясь, стал варить посылочный чернослив. Однако в это время распахнулись двери, «из облака морозного пара» вышли начальник лагеря и начальник прииска. Бросившись к печке и размахивая кайлом, один из них опрокинул все котелки, пробив у них дно. После ухода начальства стали собирать «каждый свое»: «Мы все сразу съели - так было надежней всего». Проглотив несколько ягод, герой заснул: «Сон был похож на забытье» (т. 1, с. 26). Так завершился основной сюжет. Но рассказ не закончен: параллельно развивается другая сюжетная линия. Среди ночи в помещение врываются десятники и бросают на пол что-то «не шевелящееся» (т. 1, с. 26). Это был избитый за воровство дров дежурный по бараку Ефремов, который, тихо пролежав много недель на нарах, «умер в инвалидном городке. Ему отбили “нутро” - мастеров этого дела на прииске было немало» (т. 1, с. 27).
Казалось бы, начальная ситуация - получение посылки с бурками - в высшей степени экстраординарна. В самом деле, описанные события (воровство, избиение, злобная радость «товарищей» от того, что кому-то еще хуже, агрессивный цинизм лагерного начальства, наконец, смерть от побоев) не есть нечто исключительное, но жестокая повседневность, в принципе совершенно не связанная с получением редкой и дорогой обуви. «Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам - праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки...» - растерянно размышлял персонаж (т. 1, с. 24). Точно так же и у читателей закономерно может возникнуть недоумение: причем здесь бурки? Почему вопросы добра и зла, свободы и насилия так настойчиво связываются автором с необычным предметом, вещью?
Ответ на этот вопрос достаточно прост. Унификационная сила лагеря заключалась в том, что невозможно было отличить бывшего партийного работника, деятеля Коминтерна, героя испанской войны от русского писателя или безграмотного колхозника: «неотличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах» (т. 2, с. 118), с одинаковым голодным блеском в глазах. Homo sapiens превратился в Homo somatis - лагерного человека. Но все же различие существовало, и это было, как ни парадоксально, различие имущественное. Казалось бы, о каком имуществе может идти речь, если даже после смерти заключенные не могли претендовать на последнюю одежду- гроб, который в народе зовут «деревянным тулупом»? И тем не менее сохранившиеся или присланные с воли свитер, шарф, валенки, нательное белье, одеяло и прочие вещи приобретали магическое значение, становились чуть ли не основным источником жизни. Во-первых, они источали тепло, во-вторых, легко менялись на хлеб и курево («Ночью») и потому являлись не только объектом зависти и наживы, но и причиной гибели заключенного («На представку»). И даже перчатки начальника Анисимова, в зависимости от сезона - кожаные или меховые, которыми он имел привычку бить по лицу, оказывались гуманнее кулаков, палок, плеток и тому подобного хотя бы потому, что не оставляли синяков на лицах заключенных («Две встречи»; т. 2, с. 119-120). В отличие от А. Солженицына, никаких иллюзий по поводу возможности героического противостояния личности всеобщему растлению Шаламов не питал, не видя принципиального различия между идеальным и материальным, сознанием и бытием. Унижение плоти изнурительным трудом, холодом и голодом напрямую вело к разложению духа. И потому в его художественном мире элементарная вещественная атрибутика, в частности платье и обувь, органично вписана в систему сложнейших интеллектуально-этических категорий. И не только в художественном. «По возращении (из лагеря. - Л Ж) он увидел, что перчатки и ботинки пришлось покупать на номер больше, а фуражку - на номер меньше»8 - этот факт был воспринят автором как прямое свидетельство интеллектуальной деградации. Отрицательное отношение к абстрактному (либеральному) гуманизму Шаламов выразил также «овеществленным» афоризмом: «Как
только я слышу слово “добро” - я беру шапку и ухожу»9.
Но дело не только в особенностях лагерного опыта Шаламова: испокон веков русский человек называл имущество добром без разделения узко-материального и широкого духовного содержания. Одеяние (одежда, одежа), деяние (благодеяние, добродеяние), добродетель - слова одного корня. Через внешнее облачение материализуется доброе касание Блага 10. Одежда и обувь как бы становятся локализаторами высшего метафизического смысла, проводниками чуда, что настойчиво акцентирует библейская традиция. «Крепость и красота - одежда ее» - сказано в Притчах Соломона (31:25); «...Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня...» (Ис. 61:10); «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир» (Ефес. 6:14-15) и т. д. Наконец, вспомним, что кровоточивая женщина исцелилась прикосновением к краю хитона Спасителя, «...ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови...» (Марк. 5:28-29).
Таким образом, получается, что снятие лишь изначального, лежащего на поверхности слоя (пласта) шаламовского повествования (присланные с воли бурки) обнажает семантическую многоступенчатость художественной реалии в бытовом, культурологическом и религиозном аспектах.
Но и это не все. По фамилии большинство заключенных, особенно из другого этапа, никто не звал (т. 2, с. 118), и это было естественно. А вот акт номинации носильной вещи, возведение ее на уровень имени собственного (рассказы «Галстук», «Ожерелье княгини Гагариной», «Перчатка», «Золотая медаль», «Крест», анализируемый же текст вполне мог получить название «Бурки») делают целесообразным привлечение в качестве предтекста гоголевскую «Шинель». Никакого намека на данную повесть у Шаламова, разумеется, нет. Тем не менее - в свете феномена палимпсеста - общие очертания ситуации, воссозданной Гоголем, уловить в пространстве шаламовского повествования вполне реально.
Действительно, на Колыме теплая надежная обувь необходима шаламовскому персонажу так же, как гоголевскому Акакию Акакиевичу Башмачкину новая шинель. У них общий враг, с которым нужно бороться: «наш северный мороз» не только дает «силь-
ные и колючие щелчки без разбору по всем носам»11, но и является синонимом смерти: уйти «в мороз» значит уйти в небытие (т. 2, с. 113). В условиях петербургской зимы теплая обновка долгожданна, подобно посылке с материка, но ее крадут, как украли продукты у заключенного. Едва оставшись жив, последний наспех проглатывает разбросанные в грязи ягоды чернослива, как некогда «хлебал наскоро свои щи... вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами» (Гоголь; т. 3, с. 180) Акакий Акакиевич. Служащие департамента вдоволь издевались над бедным чиновником, не слыша пронзительного крика его души: «Я брат твой» (Гоголь; т. 3, с. 178). И для колымских заключенных пропажа сумки с продуктами была «развлечением лучшего сорта». Даже через тридцать лет шаламовс-кий персонаж отчетливо помнил «злобные радостные лица» своих «товарищей» (т. 1, с. 26), как некогда «много раз содрогался... потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...», молодой канцелярист, тронутый беззащитностью гоголевского чиновника (Гоголь; т. 3, с. 178). Развивается в рассказе Шаламова и любимая Гоголем идея «своего места». Акакий Акакиевич повел себя в высшей степени неразумно, не «по чину», миновав посредствующие инстанции и обратившись с просьбой непосредственно к «значительному лицу», за что и был наказан смертельной горячкой. В колымском лагере действует аналогичная логика «своего места», сакральная мистика чина. Так, персонаж «Посылки», хорошо понимая, что ему ходить в летчицких бурках «с каучуковой подошвой» «чересчур шикарно... Это не подобает» (т. 1, с. 24), решает, избавясь от них, избежать участи быть ограбленным или избитым.
Да и начальник прииска Рябов - функционально одно и то же значительное лицо: по его милости Акакий Акакиевич впал в жар и бред, а шаламовские заключенные лишились последних крох еды. Описывая его внезапное появление в бараке, Шаламов вновь возвращается к теме злосчастных бурок: герою внезапно показалось, что Рябов был в его авиационных бурках - «в моих бурках!» (т. 1, с. 26).
Получается, что «замена» названия ша-ламовского рассказа «Посылка» на предлагаемое «Бурки» возможна по крайней мере по двум причинам: во-первых, по той роли, которую играет вещь в сюжетной организации текста; во-вторых, в тон обыгранной Гоголем фамилии Башмачкин: «Уже по самому имени
видно, что она когда-то произошла от башмака...» (Гоголь; т. 3, с. 175). Разумеется, есть и отличие: в реальности Колымы на «наследство» Акакия Акакиевича, конечно же, нашлось бы немало «охотников»: явно пригодились бы три пары носков, изношенный капот, десять листов казенной бумаги, две-три пуговицы от панталон да, наверное, и пучок гусиных перьев (Гоголь; т. 3, с. 211). А в свете рассказа «Ночью» (двое заключенных раскапывают свежее захоронение, чтобы снять с мертвеца нательное белье) вовсе не абсурдно предположение о вторичном ограблении бедного чиновника - уже в могиле.
Но дело, разумеется, не в манипулировании цитатами и не только в отдельных сюжетно-образных схождениях, а в самой концепции бытия, сформулированной Гоголем жестко и однозначно: несчастье, которое «нестерпимо обрушилось» на голову маленького человека, аналогично бедам, обрушивающимся «на царей и повелителей мира» (Гоголь; т. 3, с. 212). У Шаламова же через сложнейшую систему ассоциаций «на камни Колымы» переносятся скифские поселения и возникает та же параллель: «...скифы хоронили царей в мавзолеях, и миллионы безымянных работяг тесно ложились в братские могилы Колымы» (т. 2, с. 324). В итоге возникает невозможное при первом прочтении «Колымских рассказов» заключение: «все это насквозь пропитано запахом “шинели” Акакия Акакиевича» (характеристика, данная Н.Г. Чернышевским повестям из народного быта Григоровича и Тургенева)12.
Однако в свете теории палимпсеста и методики семанализа тексты Шаламова, как отмечалось выше, относятся к парадигматическим, то есть общий художественный смысл распределяется по вертикали и одно и то же событие на разных уровнях парадигмы может иметь разное значение, что обусловливает возможность взаимоисключающих интерпретаций. «Просвечивающая» сквозь шаламов-ские строки повесть Гоголя прежде всего дает традиционный антрополого-гуманистический ключ к повествованию, совпадающий с общей христианской направленностью русской культуры. В этом отношении, действительно: «Все мы вышли из “Шинели”». Тем не менее «Колымские рассказы» воспроизводят немало ситуаций, которые предполагают активное переосмысление, а иногда и открытую полемику с традиционным гуманизмом.
Об этом свидетельствует судьба второстепенного персонажа рассказа - дежурного
Ефремова, избитого до смерти за воровство дров, необходимых для отопления барака. Если для заключенных «получить посылку было чудом из чудес» (т. 1, с. 23), событием, будоражащим воображение окружающих, то смерть кого бы то ни было воспринималась равнодушно, как нечто вполне ожидаемое и естественное. И дело не только в атрофиро-ванности нравственного чувства, но и в особенностях лагерных представлений о преступлении и наказании, которые подчас никак не согласуются с христианской моралью и уходят в глубины стадной психологии. Например, согласно мифологии многих славянских народов, поджог и хищение пчел являлось великим (смертным) грехом, однако убийство самого похитителя в этот разряд смертных грехов не входило, напротив - поощрялось, так как мстили не люди, а сама природа - слепая безжалостная стихия. У Шаламова, по существу, аналогичная логика: избиение за кражу, совершенную не по личным побуждениям, но ради общего блага (истопить печь, чтобы было тепло всем), не вызывает возмущения ни у других, ни у самого избитого: «Он не жаловался - он лежал и тихонько стонал» (т. 1, с. 27). «Будет знать, как воровать чужие дрова» (т. 1, с. 27), - явно согласились с этой мерой наказания десятники, «люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности» (т. 1, с. 26). Обратим внимание: здесь не только вновь подчеркнута, но переиначена христианская семантика платья, о которой говорилось выше. Новые белые полушубки воняют от необношенности, открывая тем самым, что носители их - козлища в овечьих шкурах, лженас-тавники, рядящиеся в белые одежды справедливости. Однако при этом и поведение самого Ефремова, смирившегося со своей участью, - показатель необратимых психических изменений, девальвирующих личность. Вспомним, что Акакий Акакиевич, даже будучи в горячечном бреду, как мог, выражал протест: сопровождая обращение ваше превосходительство «самыми страшными словами», после которых старуха-хозяйка крестилась (Гоголь; т. 3, с. 211). «Что-то живое, хрюкающее», сваленный на пол «комок грязного тряпья» (т. 1, с. 26) - это существо, утратившее человеческий образ в акте жертвоприношения Молоху (о чем свидетельствует сема огня - необходимость растопить печь). Более того, произошло «замещение» жертвы - чистого агнца на нечистую свинью, презираемое животное. Но тогда закономерно,
что в подобном контексте ни у кого не могла появиться мысль о всеобщем братстве, как она пришла в голову молодому пожалевшему Акакия Акакиевича канцеляристу, да и насмешки над маленьким чиновником на ша-ламовском фоне кажутся лишь глупыми шутками юнцов.
Более того, в свете описанной Шаламо-вым ситуации бедный Акакий Акакиевич предстает вполне неординарной личностью в своей, пусть даже нелепой, мечте стать ступенькой повыше в социальной иерархии: «Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли точно куницу на воротник», как это подобает генералу (Гоголь; т. 3, с. 193). Дерзость же шаламовско-го персонажа первоначально также была по-истине героической: «Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех...» (т. 1, с. 23-24). Но махорки в посылке не оказалось, тогда заключенный решил разделить хлеб и масло с таким же голодным собратом. Когда же и эта попытка не удалась, мысль о дальнейшем дележе жалких крох уже не могла прийти ни в чью голову.
Так кто же они, персонажи «Колымских рассказов», - мученики, страдальцы, невинные жертвы кровавого исторического эксперимента или люди, давно перешедшие «последнюю черту», за которой, по словам автора, «уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь» (т. 1, с. 21)?
Ответ на этот вопрос вариативен и зависит от того, на каком уровне парадигмы рассматривать шаламовский текст. Но ведь и гоголевская «Шинель» на этот счет не менее проблематична. Уже при жизни автора произведение в защиту униженных и оскорбленных было воспринято одним из них - героем Достоевского (роман «Бедные люди») - как «пасквиль», «злонамеренная книга», где «все напечатано, прочитано, осмеяно, пересу-жено»13. Н.Г. Чернышевский, не отрицая, что Башмачкин - жертва бесчувствия, пошлости и грубости окружающих, одновременно добавлял, что пр этом он «круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный», хотя «говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно»14. В дальнейшем пытались говорить именно всю правду. В.В. Розанов сделал из Гоголя антипода Пушкина, бросившего «гениальную и преступную клевету на человеческую природу», и писал о «животности» Акакия Акаки-
евича 15. По словам Андрея Белого, Башмачкин с его идеей вечной шинели на толстой вате «выставлен в бесчеловечьи своих идеалов»16. Б.М. Эйхенбаум настаивал на том, что знаменитое «гуманное место» - не более чем «перепад интонации», «интонационная пауза», композиционно-игровой прием 17. Напротив, литературоведы советского периода всячески подчеркивали, что повесть Гоголя - «это гуманный манифест в защиту человека»18 или же создавали миф о Башмачкине как «грозном мстителе», подобном капитану Копейкину19. Итальянским ученым Ч. де Лотто предложен интереснейший вариант прочтения «Шинели» сквозь призму святоотеческих писаний. «Лествица Райская» преподобного Иоанна Лествичника и «Устав» Нила Сорского, в частности, дают возможность интерпретировать классическое произведение как историю физической и духовной гибели раба Божьего, поддавшегося бесам и изменившего своему назначению - быть простым и смиренным20. Л.В. Карасев, напротив, считает, что «с онтологической точки зрения» повесть рассказывает лишь «о проблемах тела» и именно шинель - как «иноформа тела», а не ее владелец является носителем «витального смысла»21.
Кто же в таком случае Акакий Акакиевич - святой, безропотно несущий возложенный Богом крест, или прельщенный дьяволом грешник? Homo sapiens или «совершенный идиот»? Манекен для шинели? И проблема здесь, как и у Шаламова, не в выборе одного параметра: гоголевская повесть - тот же парадигмальный текст, что и колымская проза. Но если парадигмальность колымской прозы наглядно реализуется в «слоеном пироге» вечной мерзлоты, то многоступенчатость «Шинели» - действительно лестница («лествица»), о чем многократно говорилось гоголеве-дами. Но и в том и в другом случае, как у Гоголя, так и у Шаламова, возможность семантического движения вверх или вниз открыта, хотя и небезгранична.
И здесь мы подходим, пожалуй, к наиболее сложному вопросу - о характере шала-мовского антропологизма, о его соотношении с христианским гуманизмом, последовательным носителем которого справедливо считается Гоголь.
Единомышленник А. Солженицына Д. Панин (прототип Сологдина) выразил свое «недоверие» к колымской прозе резко и однозначно: «...не хватает самого главного - деталей, и отсутствуют мысли, отвечающие
столь тяжелым переживаниям, будто он [Ша-ламов] описывает лошадей»22. Но вряд ли кто мог сказать жестче самого писателя: «Человек - существо бесконечно ничтожное, унизительно подлое, трусливое... Пределы подлости в человеке безграничны. Кошка может изменить мир, но не человек»23. Казалось бы, несправедливо и неверно. Но ведь и Гоголь в первой редакции «Шинели» назвал своего персонажа «очень добрым животным» (Гоголь; т. 3, с. 476), а впоследствии, трогательно описав кончину «существа никем не защищенного, никому не дорогого», не преминул добавить: не интересного даже для естествоиспытателя, «не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп» (Гоголь; т. 3, с. 211-212). По этой логике, герой «Шинели» - «даже меньше мухи» (как сказано по другому поводу в «Мертвых душах»). Казалось бы, о какой бо-гопризванности Человека разумного в подобных случаях целесообразно говорить, если лошадь, кошка, муха (ряд легко продолжить) не только интереснее, но и, как прочие животные, по замечанию Шаламова, сделаны «из лучшего материала...» (т. 4, с. 361). И тем не менее ничего богохульного в подобного рода сопоставлениях нет.
«Характерной чертой христианской антропологии является отказ воспринимать человека как “естественно доброго”, равно как и отвержение такого взгляда на человека, который рассматривает его как существо порочное по самой своей природе», - пишет современный богослов 24. Еще В. Соловьев в труде «Оправдание добра», отталкиваясь от Ч. Дарвина и проводя на основе нравственного чувства разграничение между людьми и животными как разными уровнями единого тварного мира, выделил эмоции, присущие именно человеку: стыд, жалость, благоговение 25. Антрополог Макс Шелер, глубоко чтимый христианским богословием, выдвинул еще один основательный постулат: «По сравнению с животным, которое всегда говорит “да” действительному бытию, даже если пугается и бежит, человек - это тот, кто может сказать “нет”...»26. Разумеется, имеется в виду не демонически инспирированное бунтарство - в духе Ивана Карамазова, но умение распорядиться высшим даром - свободой, данной человеку актом рождения.
Но опять-таки - разве это мы видим в колымском мире с его утраченными или переиначенными ценностями? Чувства стыда и состраданияу большинства атрофированы.
От свободы, понятой как необходимость говорить «нет» не только чечевичной, но любой похлебке, Homo somatis, естественно, отказался добровольно. От благородных побуждений, привезенных с воли, через три недели колымчане «отучились навсегда» (т. 2, с. 110). Но все же третья составляющая феномена человечности осталась - благоговение перед неизъяснимым и высшим: перед совестливостью и профессионализмом таких врачей, как Федор Ефимович Лоскутов (рассказ «Курсы»), духовной крепостью «церковников», служивших обедню в заснеженном лесу («Выходной день»), и, конечно, перед милостью природы, которая, живя по своим законам, но будучи также созданием Божьим, не оставила человека в его бесчеловечьи. «Деревом надежды» назвал Шаламов единственный на Крайнем Севере вечнозеленый стланик, мужественный и упрямый. Говоря «о юге, о тепле, о жизни», он продлевал эту жизнь: «дрова из стланика жарче» (т. 1, с. 140). «Природа тоньше человека в своих ощущениях» (т. 1, с. 140), и поэтому нет противоречия в том, что горы, в забоях которых полегли тысячи работяг, «стояли кругом, как молящиеся на коленях» (т. 2, с. 426).
Конечно, бесконечно велика была пропасть между богоустремленностью христианского вероучения и низменной реальностью «человеческих трагедий». «Положив Евангелие в карман, я думал только об одном: дадут ли мне сегодня ужин» (т. 1, с. 237-238), - без всякого лукавства признается автобиографический персонаж рассказа «Необращенный». Однако, наверное, не случайно ему удалось увидеть сквозь вытертое одеяло «римские звезды» и сопоставить несопоставимое: «чертеж звездного неба» Дальнего Севера с евангельским (т. 2, с. 292). Речь идет не об игре воображения, но о духовном прозрении, наличие которого доказано в рассказе «Афинские ночи» ссылкой на пятую, не учтенную никакими прогнозистами, потребность в стихах, которые доставляли героям чуть ли не физиологическое блаженство (т. 2, с. 405-406). Но ведь и «животность» Акакия Акакиевича, «идиотизм», «бесчеловечность» интересов и тому подобное - с религиозной точки зрения - явления духовно наполненные, за которыми стоят незлобливость, неглевливость, евангельская нищета духа, высота бесстрастия и, как следствие, «неумение постичь стратегию зла»27. Последнее справедливо и по отношению к колымчанам. Перехитрить лагерное начальство, то есть самого дьявола, с
тем, чтобы облегчить свое существование не удалось никому: берегшие себя хитростью, обманом, доносительством погибали прежде других. А бедный Акакий Акакиевич, как и шаламовские мученики, был отличен непонятными большинству «знаками». Это небольшая лысина на лбу, морщины по обеим сторонам щек и цвет лица, что называется «геморроидальный» (Гоголь; т. 3, с. 174). Колым-чане же обречены носить «пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!» (т. 2, с. 114). Это, бесспорно, знаки рабской униженности, но той, на которую указывают Заповеди Блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матф. 5:4). Христианский гуманизм не исчерпывается элементарной эмоцией милосердия, и апо-фатическая форма его проявлений равновелика катафатической.
Отсюда становится объяснимым и еще один сюжетно-эмоциональный поворот в рассказе «Посылка». Исключая со стороны солагерников эмоцию жалости по отношению к человеку в «состоянии за-человечности» (т. 4, с. 374), Шаламов акцентирует авторское сочувствие к «страданиям» фанерного ящика: «Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались» (т. 1, с. 23). Посылка с воли - тот же «светлый гость», как и шинель для Акакия Акакиевича; не просто объект желаний, но объект-субъект, одухотворенный и индивидуализированный: расколотая фанера ломалась, трещала, кричала особенным «не таким голосом», как «здешние деревья» (т. 1, с. 23).
И здесь вновь возникает параллель не в пользу лагерного человека: треснутый ящик «кричит», то есть имеет собственный голос, в то время как безжалостно избитый, рухнувший на пол лагерник, не жалуясь, «тихонько» стонет и незаметно умирает. Если посылка - «нечаянная радость» из иной, полноценной, жизни, то Ефремов - «посылка» из ада, олицетворяющая смерть. У него также отбито «нутро», но в отличие от высыпавшейся из «умело» подброшенных фанерных ящиков снеди, ставшей достоянием людей «с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме» (т. 1, с. 23), «нутро» Ефремова никого не интересовало. Персонаж как был, так и остался вещью в себе, навсегда сокрыв имена своих убийц. Сопоставив две истории, не связанные между собой сюжетно-каузально, но корреспондирующие друг с другом, мы имеем практически адекватную иллюстрацию к
суждениям Г. Башляра о значимости темы ящиков, сундуков, замков и тому подобного в литературе: «вот, поистине, орган тайной жизни души», «модель сокровенного», напрямую соотносящаяся с внутренним миром литературного героя 28.
Впрочем, у Акакия Акакиевича также имелся небольшой ящичек «с прорезанною в крышке дырочкой», куда он имел обыкновение откладывать по грошу с каждого истраченного рубля (Гоголь; т. 3, с. 191). Но главную свою тайну герой все же унес с собой в сосновый гроб (ящик-домовину) - тайну своего истинного «я»: или это безобидный чиновник, превратившийся через несколько дней после смерти в грозного разбойника, или же бес в человечьем обличье, или действительно живой мертвец, материализовавшийся в воображении испуганных обывателей? Ведь, в сущности, на основе аналогичной эмоционально-психологической матрицы материализуются убылые (официально принятое наименование) крестьянские души в поэме Гоголя. Весело погуляют они на воле, пьянствуя и обманывая бар, «выпрыгнув» из заветной шкатулки Чичикова.
Так, в аспекте параллели «Шаламов - Гоголь» история посылочного ящика дает основание перейти от «Шинели» к «Мертвым душам». Сакрализация коснулась не только чичиковского ларчика с двойным дном, потайными местами для бумаг и денег, множеством перегородок и т. п. По существу, тема ящика как хранителя благой или дурной вести проходит через все произведение. «Благодать Божия в шкатулках толстых чиновников» - совсем не иронически замечено автором (Гоголь; т. 5, с. 521). В «нежных разговорах» некоторые жены называли своих удачливых мужей «кубышками» (т. 5, с. 224). Ящичек среди прочего хлама выхватил острый глаз Павла Ивановича в доме Плюшкина. У хозяйственной Настасьи Петровны множество мешочков с деньгами надежно укрывали комоды. Но об этой героине с «говорящей» фамилией следует говорить особо. Коробочка, к тому же «дубинноголовая», то есть как бы закрытая тяжелой дубовой гробовой крышкой, и есть главная шкатулка, надежно защищенная от посторонних глаз и в то же время добровольно «расколовшаяся» под напором распирающей нутро тайны: ведь именно она положила начало разоблачению Чичикова-афериста.
Варлам Шаламов считал уместным деление литературы на два разряда: литерату-
ру «протезов» и литературу «магического кристалла». Первая исходит из «прямолинейного реализма» и, по мнению писателя, не способна отразить трагическое состояние мира. Только «магический кристалл» дает возможность увидеть «несовместимость явлений», их неразрешимо конфликтную сопряженность: «Трагедия, где ничто не исправляется, где трещина идет по самой сердцевине»29. У Шаламова, как и у Гоголя, разноуровневые реалии и ассоциации (социально-исторические, религиозные, литературно-художественные и пр.), соподчиненные при самодостаточности каждой, распределяются по центральной оси «магического кристалла». В итоге получается - от «расколовшейся» Коробочки, наводнившей город страхами и ужасами, от вскрывшегося соснового гроба, из которого встал, реально или виртуально, Акакий Акакиевич, чтобы вернуть себе свое, от Максима Телятникова и Абакума Фыро-ва, презревших запоры чичиковской шкатулки (того же гроба), до шаламовского Ефремова с отбитым «нутром» и расколотой посылки, застонавшей по-человечьи, не столь уж велика эмоционально-художественная и историческая дистанция. Расколотость, проходящая «по сердцевине» отдельных судеб, - выражение экзистенциальной трагедии России.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Шаламов В.Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004. С. 358.
2 Там же. С. 839.
3 Там же. С. 362.
4 Шаламов В.Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1998. С. 219. Далее ссылки на это издание приведены в тексте в круглых скобках с указанием номера тома и страницы.
5 См.: Аланович Ф. О семантических функциях интертекстуальных связей в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // IV Шаламовс-кие чтения. М., 1997. С. 40-52; Волкова Е.В. Эстетический феномен Варлама Шаламова // Там же. С. 7-8; Лейдерман Н. «...В метельный леденящий век»: О «Колымских рассказах» // Урал. 1992. № 3. С. 171-182; Михайлик Е. Другой берег.
«Последний бой майора Пугачева»: проблема контекста // Новое литературное обозрение. 1997. №28. С. 209-222; и др.
6 Кристева Ю. Разрушение эстетики: Избр. тр.: Пер. с фр. М., 2004. С. 341.
7 Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. М.; Екатеринбург, 2001. С. 330-334.
8 Шаламов В.Т. Новая книга... С. 270.
9 Там же. С. 881.
10 Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. В 5 кн. Кн. 2. Добро и зло. СПб., 2001. С. 64.
11 Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений: В 5 т. Т. 3. М., 1952. С. 182. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в круглых скобках номера тома и страницы.
12 Чернышевский Н.Г. Литературная критика: В 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 217.
13 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 1. Л., 1972. С. 63.
14 Чернышевский Н.Г. Указ. соч. С. 216.
15 Розанов В.В. Как произошел тип Акакия Акакиевича // Русский вестник. 1894. №° 3. С. 168.
16 Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М., 1996. С. 30.
17 Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. ст. Л., 1969. С. 320-323.
18 Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 304.
19 История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л., 1981. С. 575.
20 Лотто Ч. де. Лествица «Шинели»: [Предисл. к публ. И.П. Золотусского] // Вопросы философии. 1993. №° 8. С. 58-83.
21 Карасев Л.В. Вещество литературы. М., 2001.
22 Панин Д.М. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 2001. С. 212.
23 Шаламов В.Т. Новая книга... С. 884.
24 Филарет, митрополит Минский и Слуцкий. Православное учение о человеке // Православное учение о человеке: Избр. ст. М.; Клин, 2004. С. 15.
25 Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 124 и след.
26 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западноевропейской философии. М., 1988. С. 65.
27 Лотто Ч. де. Указ. соч. С. 69.
28 Башляр Г. Поэтика пространства: Избранное. М., 2000. С. 23.
29 Шаламов В.Т. Новая книга... С. 878.
Помогите найди анализ любого "Колымского рассказа" В. Т. Шаламова и получил лучший ответ
Ответ от LEGE artis[гуру]
Варлам Шаламов справедливо считается первооткрывателем лагерной темы в русской литературе XX века Но получилось так, что его произведения стали известны читателю уже после опубликования повести А Солженицына «Один день Ивана Денисовича» Полому «Колымские рассказы» чаще всего воспринимаются на фоне прозы Солженицына, в сопоставлении и сравнении с нею И сразу бросается в глаза: Шаламов жестче, беспощаднее, однозначнее в описании ужасов ГУЛАГа, чем Солженицын
В «Одном дне Ивана Денисовича» и в «Архипелаге ГУЛАГе» приведено немало примеров человеческой низости, подлости, лицемерия Но тем не менее Солженицын замечает, что нравственному растлению в лагере поддавались в основном те поди, которые уже на воле были к этому подготовлены Обучиться лести, лжи, «мелким и большим подлостям» можно везде, но человек должен остаться человеком даже в самых трудных и жестоких условиях Более того, Солженицын показывает, что унижения и испытания пробуждают в личности внутренние резервы и духовно освобождают ее
В «Колымских рассказах» (1954-1973) Шаламова, напротив, повествуется о том, как осужденные быстро теряли свое прежнее «лицо» и часто зверь был милосерднее, справедливее и добрее их.
И действительно, персонажи В Шаламова, как правило. утрачивают веру в добро и справедливость, представляют нравственно и духовно опустошенными Души их, заключает писатель «подвернись полному растлению» «В лагере каждый за себя» , зэки «сразу выучились не заступаться друг за друга» В бараках, замечает автор, часто возникали споры, и все они заканчивались почти всег да одинаково -
драками. «А ведь участники этих споров - бывшие профессора, партийцы, колхозники, полководцы» . По мнению Шаламова, в лагере существует давление, нравственное и физическое, под влиянием которого «каждый может стать вором от голода».
Посылка
Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали - получить посылку было чудом из чудес.
Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках - в белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры.
Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски - это не лед! Это сахар! Сахар! Сахар! Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на два раза, на три раза.
А махорка! Собственная махорка! Материковская махорка, ярославская «Белка» или «Кременчуг № 2». Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех, а прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка! Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов, - авантюра гигантских масштабов: на лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут.
Фамилия?
Посылка треснула, и из ящика высыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива - две-три горсти…
Тебе бурки! Летчицкие бурки! Ха-ха-ха! С каучуковой подошвой! Ха-ха-ха! Как у начальника прииска! Держи, принимай!
Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам - праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки. Бурки - это чересчур шикарно… Это не подобает. Притом…
Слышь ты… - Чья-то рука тронула мое плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо:
Продай мне эти бурки. Я тебе денег дам. Сто рублей. Ты ведь до барака не донесешь - отнимут, вырвут эти. - И Бойко ткнул пальцем в белый туман. - Да и в бараке украдут. В первую ночь. «Сам же ты и подошлешь», - подумал я.
Ладно, давай деньги.
Видишь, какой я! - Бойко отсчитывал деньги. - Не обманываю тебя, не как другие. Сказал сто - и даю сто. - Бойко боялся, что переплатил лишнего.
Я сложил грязные бумажки вчетверо, ввосьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослив пересыпал из ящика в бушлат - карманы его давно были вырваны на кисеты.
Куплю масла! Килограмм масла! И буду есть с хлебом, супом, кашей. И сахару! И сумку достану у кого-нибудь - торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежностьвсякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками.
Я вернулся в барак. Все лежали на нарах, только Ефремов сидел, положив руки на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки.
Что же не растопляешь? Подошел дневальный.
Ефремовское дежурство! Бригадир сказал: пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно.
Ефремов выскользнул в дверь барака.
Где ж твоя посылка?
Ошиблись…
Я побежал к магазину. Шапаренко, завмаг, еще торговал. В магазине никого не было.
Шапаренко, мне хлеба и масла.
Угробишь ты меня.
Ну, возьми, сколько надо.
Денег у меня видишь сколько? - сказал Шапаренко. - Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро.
Сахару я забыл попросить. Масла - килограмм. Хлеба - килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе, в одной бригаде, но судьба нас развела.
Шейнин был в бараке.
Давай есть. Масло, хлеб.
Голодные глаза Шейнина заблистали.
Сейчас я кипятку…
Да не надо кипятку!
Нет, я сейчас. - И он исчез.
Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и, когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне: во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет…
Я не плакал. Я еле остался жив. Прошло тридцать лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные, радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина.
Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив.
Барак уже спал: стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое: Синцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобывыпить потом с жадностью горячую снеговую воду пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты - счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ! А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду.
Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один, помоложе, - начальник лагеря Коваленко, другой, постарше, - начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках - в моих бурках! Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские. Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, которое он принес с собой.
Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!
Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка.
Рябов грел руки о печную трубу.
Есть котелки - значит, есть что варить, глубокомысленно изрек начальник прииска. - Это, знаете, признак довольства.
Да ты бы видел, что они варят, - сказал Коваленко, растаптывая котелки. Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки и собирать каждый свое: я - ягоды, Синцов - размокший, бесформенный хлеб, а Губарев - крошки капустных листьев. Мы все сразу съели - так было надежней всего.
Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги, - когда-то я этого не мог, но опыт, опыт… Сон был похож на забытье.
Жизнь возвращалась, как сновиденье, - снова раскрылись двери: белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее.
Дневальный, в недоуменной, но почтительной позе склонившийся перед белыми тулупами десятников.
Ваш человек? - И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу.
Это Ефремов, - сказал дневальный.
Будет знать, как воровать чужие дрова.
Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили «нутро» - мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался - он лежал и тихонько стонал.