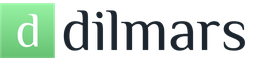Вишневый сад някрошюс. Главные постановки «Вишневого сада
А. П. Чехов «Вишневый сад».
Международный Фонд К. С. Станиславского и театр «Мено Фортас» (Литва).
Режиссер Эймунтас Някрошюс, художник Надежда Гультяева
Идея переписки о Някрошюсе в тот момент, когда Вы остаетесь в Петербурге, я лечу в Магнитогорск, спектакль «Вишневый сад» ездит по России, а видели мы с Вами его вообще-то в Москве, да еще в разные месяцы летом и осенью, — это классный хронотоп! Вся Россия и Литва — наш сад.
С чего начать?
Начну радикально. Мне кажется, случилась неудача. Конечно, это неудача принципиальная, крупнейшего режиссера, и она — не чета многочисленным якобы успешным московским театральным «удачам». Это все равно событие. Но относительно самого Някрошюса — шаг назад и от выдающихся «Трех сестер», и от давнего «Дяди Вани». Он выглядит здесь собой «прошлым», будто не поставившим спектакли последних десяти лет, в частности моего любимого «Макбета» — с вселенским христианским покоем.
Объясню, что имею в виду.
У Някрошюса всегда — не только огонь и вода, естественные природные стихии, не только всегда — предметы простого хуторского быта (даже если это Шекспир, Монтекки и Капулетти убивают друг друга крестьянскими вилами, а Отелло волочит, как корабли своего флота, выдолбленные деревянные корытца, в которых рубят еду и из которых кормят скот) — у Някрошюса всегда свои актеры. Даже если в очередной «сборной» возникают новые лица — так или иначе присутствуют постоянные, коренные «первачи»: Костас Сморигинас, Владас Багдонас. Им не надо объяснять, что такое огонь и вода. И дерево. И вилы. Они сами — стихии Някрошюса. И он знает, что такое коренная лошадь и как ее запрягать, отправляясь в мир.

И первая тревога, которая сопровождала ожидание «Вишневого сада» в Москве, была именно эта: как, двинувшись со своего «театрального хутора» — в Москву, в Москву, — Някрошюс станет «запрягать» актеров с совершенно разной «иноходью». Как сможет он, несомненно великий, соединить в одно разные актерские школы и привычки? Как вообще смогут существовать вместе Л. Максакова и А. Петренко, Е. Миронов и И. Оболдина?.. Как откликнутся они на язык Някрошюса — странный, гротесковый, алогичный, лишенный тех «эпитетов», к которым привычен русский артист?
Конечно, готовилось выдающееся театральное событие. Впервые великий Эймунтас Някрошюс рискнул поставить спектакль с русскими актерами. Как мы помним и видели, пробы с иностранцами у него были (не так давно — итальянская «Чайка». Не очень сильную, но легкую, гибкую труппу Някрошюс выпустил на сцену стаей гомонящих птиц — все чайки… нет, не то, все актеры).
Но тут-то — Россия…
Смущало и некое насильственное завершение чеховского цикла. Он уже поставил все чеховские пьесы («Иванов», «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры»). Оставался «Вишневый сад». Накануне 100-летия пьесы и 100-летия со дня смерти Чехова.
В одной из сцен Лопахин — Е. Миронов пытается разжечь костер, спички кончились, и он высекает искру первобытным способом — камень о камень. Костер долго не загорается. Някрошюс давно разжигает свои костры «первобытной» искрой, но московский костер, который разводят шесть часов (столько идет спектакль), никак не разгорается…
Я вижу, как Някрошюс «разминает» актеров, строя вокруг текста и помимо него мир суверенных импровизаций. Утомительно долгий и не дающий приращения содержания.

Я почему-то не вижу метафор, а вижу довольно плоские знаки. Да, сада нет. Продается уже погост или пепелище — неуютное пространство у двух разрушенных усадебных пилястров, похожих на могильные столбики. В этом пространстве могучий Фирс (А. Петренко) чистит старые пальто, а больше здесь уже давно ничего нет.
Вместо сада… тир. Его знаковый смысл обозначен в самом конце, когда все герои, надев заячьи уши, выстраиваются за черным тюлем и их расстреливают невидимые охотники. «Заячья тема» прорисовывалась с первого акта: сперва Аня мотается ночью с домашним чучелом зайца, потом они с Варей прыгают зайчиками на балу, а Шарлотта «расстреливает» их: пиф-паф-ой-ой-ой… Затем вот — пиф-паф в финале. Смысл выходит плоский, вчерашний, что не пристало Някрошюсу — автору великих театральных метафор, всегда скреплявших его спектакли. Кажется, что «Вишневым садом» ему нечего сказать. (Недаром возникают цитаты из самого себя: из «Трех сестер», «Любви и смерти в Вероне».) Время тянется нарочито медленно, бесконечная внетекстовая жизнь спектакля не склеивается в целое, выходит «все враздробь». Усталый и анемичный, Някрошюс ответвляется от текста актерскими этюдами, протяженными кусками сценической жизни, исходящей из себя самой (это, несомненно, полезно для исполнителей, это «другая жизнь», они с таким не сталкивались и запомнят этот способ сценической вязи на всю жизнь как странное колдовство над самими собой). Но все видно, все показывается: и как Аня надевает Раневской варежки, и как они радуются с Варей…
И актеры никак не сыгрываются в ансамбль.
Они играют так, как привык каждый из них.
Полубезумная Раневская. Л. Максакова выглядит в роли усердной ученицей, выполняющей формальные задачи. Лучший — первый акт. Она выходит, волоча черную кушетку, как гроб, ложится на нее. Остановившиеся глаза. Близкие понимают, что она душевно больна, стоят, как у кровати или гроба… В третьем акте — зловещая белая маска смерти, приступы безумия… Как будто старая Графиня — Пиковая дама прикинулась Раневской.
Мягкий, достоверный В. Ильин — Гаев. Такой, как всегда.
Нарочитая, как будто перевозбужденная Аня — несомненно способная дебютантка А. Марченко. Много визга, игры в большеглазую юность…
Совершенно никакой И. Гордин — Петя, а ведь как прекрасен в гинкасовской «Даме с собачкой». А тут суетится — классический Петя Трофимов, облезлый барин.
А. Петренко — Фирс. Для того чтобы он вышел, помолчал, посмотрел и сказал всей своей могучей натурой (не голосом), что сил стало мало, — Някрошюс не нужен…
Формальная, пустая Шарлотта — И. Апексимова. Играет — как в любом антрепризном спектакле: уверенная манера, холодность, равнодушие к партнеру и залу.

Больше всех похожа на ня-крошюсовскую актрису И. Обол-дина — Варя (или похожа на его актрис — летучих, легких, ведающих законы сценического колдовства). Она меряет сцену странными шагами, мечется по ней, плечи — внутрь, странный взгляд птицы-монашки. В финале Лопахин, так и не сделав предложения, перекрестит себя ее пальцами (едва ли не лучший момент спектакля) — и поедет она экономкой к Рагулиным. Только, может, не доехав, спрыгнет по дороге и останется ведьмой — караулить Макбета. Есть в Варе — Оболдиной истинная странность некого искажения, внутренняя кривая — еще одна стихия Някрошюса.
И — замечательный Лопахин — Е. Миронов, играющий, впрочем, тоже так, как играет он. Покажи его Лопахина отдельно — о Някрошюсе никто не подумает, хотя явно «хуторянин», работник Ермолай Ня-крошюсу ближе других героев. Не в том дело, что Миронов играет пронзительную, вытянувшуюся в струнку, какую-то юношескую, может быть первую, любовь Лопахина. Конечно — к Раневской (она целует его руку — он восторженно убегает, храня эту руку, как подарок…). Дело в том, что Миронов играет в лирическом Лопахине изначальную христианскую вину за все, что содеяно. Покупая сад, он понимает — виновен, он мучается, мается, у него не толь-ко тонкие пальцы, но ясные глаза. А другого выхода нет. Тем более — вырубать-то нечего, место давно мертвое…
И костер никак не разжечь…
О Миронове можно затеять отдельную переписку. Может быть, его Лопахин родился из Мышкина (тут странности актерских судеб и перекрестий), и виновность перед миром перешла оттуда. Если даже так — целая тема.
Отвечайте, я жду!
М. Ю.
Марина Юрьевна!
Простите, что долго не отвечала. Писать о спектаклях Някрошюса — даже письма — всегда оказывается очень трудно. Очевидно, «Вишневый сад» — особенно тяжелый материал для рецензии, хотя бы потому, что невозможно запомнить, вобрать в сознание шесть часов сценического текста. Я, когда смотрела, даже и не пыталась. Результат — осталось общее ощущение и еще какие-то обрывки, вспышки, картины, образы, мизансцены. Вы правы: «все враздробь». Но предлагаю в этой «раздробленности» увидеть не только недостаток. Сам мир, который предстает в спектакле, разорван, раздерган, лишен целостности. Группа лиц без центра (или с несколькими центрами) — уже почти не группа, настолько каждый живет только своим безумием, своей манией. (Хотя круговорот может увлечь и объединить всех на какие-то мгновения, превратить в любимый Някрошюсом образ — «гомонящую стаю», хлопающую крыльями, готовую к полету.) В этой связи для меня не было препятствием то, что в спектакль собраны актеры разных театров, играющие каждый по-своему.
Не думаю, что «Вишневый сад» обязательно должны играть актеры одной школы — например Мастерской Фоменко. Послед-няя пьеса Чехова пронизана диссонансами. То ли водевиль, то ли трагедия, то ли цирк, то ли драма идей, а на самом деле — все это вместе. Единство тона, гармония, ансамбль — все это чуждо «Вишневому саду», в нем сильны центробежные силы, невооруженным глазом видны контрасты, контрапункты. Мне кажется, это ощущение от пьесы, от системы ее образов и мотивов выражено в спектакле Някрошюса. Разумеется, смотреть его при этом сложно — человек инстинктивно ищет гармонии, завершенности, целостности, ясности и противится рваной бессвязности, алогизму, тревожной смуте.

«Вишневый сад» — спектакль очень неуютный, неприятный, дискомфортный. В нем нет никакой теплоты, надежды, света. В отличие от великой трагедии «Отелло», здесь нет мощных чувств и крупных героев(которые вызывают восхищение и просветление, даже если погибают), поэтому безнадежность и беспросветность полная, кромешная. Все разрушено, все обрече-ны — а некоторые, на самом деле, уже умерли. Мальчик Гриша утонул, покойная мама ходит по саду — ее видит «безумная» (а по сути — мертвая) Раневская, тут же бродят отец и дед Лопахина (он к ним в прямом смысле взывает — стучит в пол)… «Вишневый сад» пронзает тема смерти. Может, это слишком просто (и тогда Вы видите плоские знаки вместо метафор), но быть задетым такой темой для художника — дело самое что ни на есть закономерное и естественное.
О смерти — не только кушетка-гроб Раневской (Дуняша кладет ей цветы на грудь, как умершей), не только руины дома. Здесь властвует мрак и еще — холод, ледяной могильный холод. У Вари пальцы сводит от холода так, что не распрямить. Аня надевает матери варежки на озябшие руки… Лопахин постоянно ощущает этот холод, некоторые не замечают, а он все время мучительно мерзнет, то шарф потеплее наденет, то грелку за шиворот засунет. На руки дышит. Безуспешно пытается разжечь костер, чтобы спастись от холода, но это, разумеется, невозможно. Так же невозможно, как спасти Раневскую и сад. Никакие человеческие усилия не помогут, хоть спичкой поджигай, хоть камень о камень бей, хоть в долг денег давай, хоть предлагай сдавать участки под дачи. Ничего не работает.
Бессильной оказывается и любовь. Одной из совершенно незабываемых и необъяснимых по силе воздействия стала для меня сцена, в которой Лопахин — Е. Миронов поет Раневской — Л. Максаковой песню из «Де-мона» Рубинштейна. Слова там какие-то странные, что-то прогор-лицу (надо будет уточнить у Е. В. Третьяковой), но дело не в конкретных словах, а в том, насколько дико выглядит это пение, этот выброс душевных сил в космически-морозную пустоту. Раневская—Максакова сидит на стуле, а Лопахин—Миронов стоит возле, как бы нависая над ней, не прямо, а чуть подавшись вперед, в неестественной, неудобной позе. Поет он долго, только покажется, что уже допел, — тут начинается следующий куплет. Видно, что Раневская ждет и не может дождаться, когда же наступит конец этой неуместной песне, ей неловко остановить Лопахина, она прекрасно понимает, что его песня — это любовь к ней, но любовь совершенно ненужная, бесполезная. Она не может не только ответить, но даже принять ее — мертвым любовь ни к чему, уже не поможет.

Стрельба по зайцам — довольно-таки, действительно, противный черный юмор все на ту же тему смерти и до жути смешного бессилия человека перед ней. Вы пишете о «вчерашнем смысле» финала. Я не вижу ничего вчерашнего или позавчерашнего в чувстве страха перед смертью. Пока он еще не устарел!.. Не хотите же Вы сказать, что Някрошюс говорит о том, что хозяева и прочие жители вишневых садов были расстреляны революцией… Конечно, нет. Он слышит «звуки смерти» — это почти мистическая трактовка «Вишневого сада», о которой давным-давно писал Мейерхольд. «На фоне глупого топотанья вдруг входит Ужас», «веселье, в котором слышны звуки смерти» — это о третьем акте, о бале во время торгов, о макабрических танцах. Хромающие движения, жуткие пляски калек. В большом круге справа проносятся все, а слева сомнамбулически кружит одна Раневская в роскошном, отливающем бронзой платье. Третье действие спектакля, вероятно, самое мощное (кульминация!), завершается пронзительным, оглушительным, невыносимым птичьим щебетом — так сад «приветствует» нового хозяина. Несчастного Лопахина… Каким одиноким, продрогшим до костей он выглядит в последнем акте, как трогательны его попытки устроить красивое прощание! Он как будто готовится писать натюрморт (опять это «морт» — все-таки про смерть!): старательно расставляет на скатерке бокалы, бутылки, цветы, примеривает так и этак — создает красоту, которую грубо и воровато, бездумно разрушит Яша, выпивший шампанское и свернувший скатерть в узел вместе с посудой…
О чем еще сказать?.. В спектакле Някрошюса с русскими артистами мне, как это ни странно, мешало именно то, что я понимаю весь текст. Например, все, что говорит Петя Трофимов, я предпочла бы услышать на каком-то совсем незнакомом языке!.. А что до «разности школ» — это, боюсь, что-то надуманное. У Някрошюса артисты всегда существуют «по правде» — абсолютной психологической правде. Про душевную жизнь, страдания и радости, судьбу его героев можно все рассказать очень подробно, и это будет рассказ о людях. Рисунок роли выстраивается небытовой, но переживания и чувства глубоко достоверны. Разве это чуждо актерам русского театра, к тому же знакомым с разными режиссерскими манерами?.. Пожалуй, не всех персонажей «Вишневого сада» Чехова можно решать «психологически». Шарлотта, к примеру, это рифма к Раневской, пародия на нее. Как в по-лифонии — «подголосок» к основной, высокой, теме. Вот И. Апексимова и играет маниакальную черную клоунессу с тем же самым остановившимся взглядом. Страшно же смотреть, как Шарлотта толкает пустую детскую коляску, которая катится в сторону зрителей, и бросается под нее, как под поезд… (Кстати, тема ребенка — утонувшего у Раневской, нерожденного у Шарлотты — тоже объединяет этих героинь.)
Простите за сумбур этих заметок, если решите написать что-то в ответ — буду рада прочесть!

Конечно, Вы правы про тему смерти — как же не увидать ее у Някрошюса от начала до конца. Уже не в первом спектакле (надо полагать — и не в последнем). Но художественное высказывание на эту тему оказалось для меня мертво не как высказывание о смерти, а само по себе. О мертвом — мертво. Ведь можно о смерти — идя от жизни? А тут — ощущение отсутствия не только идей, но энергии высказывания. Кажется, что ему уже ничего не хочется, а надо. Есть проект, набрал актеров, а энергии высказывания нет. Каждый из нас знает, что такое не писать текст, а уныло нажимать на буквы, профессионально приставляя слово к слову. Когда сказать особо нечего, но работа такая. Писать. Спектакль ставить. Я в последнее время ужасно жалею режиссеров: бедные, им бы на травку, а приходится работать, зарабатывать постановками… Скажи им сейчас: отдохните, оглядитесь, не ставьте, — уверена, многие с радостью бы перестали мучить нас спектаклями. В «Вишневом саде» великий режиссер Някрошюс гнет какую-то негнущуюся проволоку, кажется, что он нарочно тянет время, предваряющее высказывание, и вот уже скажет… а не говорит. Потому что (первый раз у меня такое от него ощущение!) сказать нечего. Устал! Смертельно. Имеет, между прочим, право. И не нами оно ему дано.
Марина Юрьевна!
Чувства жалости Някрошюс уж точно не вызывает, как не может его вызвать, например, атлант, держащий на плечах своды здания…
А есть ведь еще совсем простая вещь, о которой я сразу как-то не подумала: Вы видели самый первый показ, а я шестой или седьмой по счету спектакль, да еще сыгранный через два месяца, в другом зале и после какой-то доработки! Поэтому мы по существу говорим о разных спектаклях — Ваш еще только-только «родился», а мой уже не только задышал, но даже начал «ползать». А ведь потом он еще пойдет и заговорит!..
Такое в театре более чем возможно: по мизансценам все осталось, как было на премьере, но появилась внутренняя наполненность, то есть скелет тот же, а «мясо» наросло. Я никак не могу упрекнуть «Вишневый сад» в отсутствии энергии. Он воздействует, он забирает, втягивает, причем чем дальше, тем больше. Есть эффект растущего интереса и включенности, а вовсе не усталости от чего-то длинного, нудного и «безыдейного». Я говорю сейчас о реакции зала, а не о своем восприятии только (собой проверять побаиваюсь — слишком привыкла доверять Някрошюсу и, кроме того, видимо, как-то бессознательно, биологически совпадаю с ритмами его спектаклей). Конечно, какая-то часть зрителей уходит домой, что совершенно закономерно, но аудитория в целом проходит путь от прохладного наблюдения к заинтересованному вниманию, к живому эмоциональному подключению, а третье действие вызывает самое настоящее потрясение. Финальный акт, таким образом, смотрит уже полностью завоеванный зритель.
Здесь, думаю, стоит нашу переписку прервать и отложить, может быть, не навсегда, а до того момента, когда мы с Вами посмотрим один и тот же спектакль «Вишневый сад» и окажемся завоеванными вместе!





Константин Станиславский в роли Гаева. Постановка «Вишневого сада» в МХТ. 1904 год
Леонид Леонидов в роли Лопахина. Постановка «Вишневого сада» в МХТ. 1904 год © Альбом «Пьесы А. П. Чехова». Приложение к журналу «Солнце России», № 7, 1914 год
Александр Артём в роли Фирса. Постановка «Вишневого сада» в МХТ. 1904 год © Альбом «Пьесы А. П. Чехова». Приложение к журналу «Солнце России», № 7, 1914 год
Василий Качалов в роли Пети Трофимова и Мария Лилина в роли Ани. Постановка «Вишневого сада» в МХТ, действие II. 1904 год © Альбом «Пьесы А. П. Чехова». Приложение к журналу «Солнце России», № 7, 1914 год
Фирс: «Уехали… Про меня забыли». Постановка «Вишневого сада» в МХТ, действие IV. 1904 год © Альбом «Пьесы А. П. Чехова». Приложение к журналу «Солнце России», № 7, 1914 год
Котильон. Постановка «Вишневого сада» в МХТ, действие III. 1904 год © Альбом «Пьесы А. П. Чехова». Приложение к журналу «Солнце России», № 7, 1914 год
В этой самой первой постановке «Вишневого сада» Чехова очень многое не устраивало. Расхождения автора с Константином Станиславским, который ставил написанную специально для Московского художественного театра пьесу, касались распределения ролей между исполнителями, настроения и жанра (Станиславский был убежден, что ставит трагедию), даже постановочных средств, отражающих натуралистическую эстетику раннего МХТ. «Я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: „Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка“», — цитировал Станиславский ехидную шутку Чехова по поводу звуковой партитуры, воссоздающей усадебную жизнь. Этот конфликт писателя с театром не обходит сегодня ни одна чеховская биография или история МХТ. Но гнетущая атмосфера, ручьи слез и все то, что пугало Чехова, расходится с теми немногочисленными сохранившимися фрагментами более поздних версий «Вишневого сада» — спектакля, вплоть до второй половины 1930-х сохранявшегося в репертуаре театра и постоянно менявшегося, в том числе благодаря самому Станиславскому. Например, с записанной на кинопленку короткой финальной сценой с Фирсом: голос лакея в исполнении Михаила Тарханова звучит в ней — вопреки ситуации забытого в доме слуги, тому, как тяжело дается каждое движение этому дряхлому старичку, вопреки вообще всему — вдруг необыкновенно молодо. Только что Раневская, рыдая, простилась на сцене со своей молодостью, а к Фирсу она чудесным образом возвращалась в эти самые последние минуты.
1954 год. «Компани Рено — Барро», Париж. Режиссер — Жан Луи Барро




Сцена из постановки Жана Луи Барро «Вишневый сад». Париж, 1954 год © Manuel Litran / Paris Match Archive / Getty Images
Сцена из постановки Жана Луи Барро «Вишневый сад». Париж, 1954 год © Manuel Litran / Paris Match Archive / Getty Images
Сцена из постановки Жана Луи Барро «Вишневый сад». Париж, 1954 год © Manuel Litran / Paris Match Archive / Getty Images
Выдающиеся европейские постановки «Вишневого сада» начали появляться только после войны. Историки театра объясняют это чрезвычайно сильным впечатлением западных режиссеров от спектакля МХТ, который не раз вывозил чеховскую пьесу на гастроли. Поставленный Жаном Луи Барро «Вишневый сад» не стал прорывом, но это очень интересный пример того, как европейский театр в поисках своего Чехова медленно выходил из-под влияния МХТ. От режиссера Барро, в эти годы открывавшего для себя и зрителей своего театра Камю и Кафку, продолжавшего ставить своего главного автора — Клоделя, можно было бы ждать прочтения Чехова через призму новейшего театра. Но ничего этого в «Вишневом саде» Барро нет: слушая сохранившуюся запись его радиотрансляции, про абсурдизм вспоминаешь только тогда, когда Гаев в ответ на деловое предложение Лопахина об устройстве дач на месте усадьбы возмущается: «Аbsurde!» «Вишневый сад» в постановке «Компани Рено — Барро » — это прежде всего (и строго по Чехову) комедия, в которой огромное место было отведено музыке. За нее в спектакле отвечал Пьер Булез, с которым сотрудничал театр в эти годы. Роль Раневской играла жена Барро, соосновательница театра, заработавшая себе славу именно как комическая актриса «Комеди Франсез», Мадлен Рено. А сам Барро неожиданно выбрал для себя роль Пети Трофимова: быть может, великому миму оказался близок герой, разгадавший характер купца Лопахина по его рукам — «нежные пальцы, как у артиста».
1974 год. Театр «Пикколо», Милан. Режиссер — Джорджо Стрелер



Репетиция спектакля Джорджо Стрелера «Вишневый сад». Милан, 1974 год © Mondadori Portfolio / Getty Images
Тино Карраро в постановке Джорджо Стрелера «Вишневый сад»
Тино Карраро и Энцо Тарашо в постановке Джорджо Стрелера «Вишневый сад» © Mario De Biasi / Mondadori Portfolio / Getty Images
«Крэг хочет, чтобы декорация была подвижной, как музыка, и помогала совершенствовать определенные места в пьесе подобно тому, как с помощью музыки возможно следовать за поворотами действия и подчеркивать их. Он хочет, чтобы декорация изменялась вслед за пьесой», — писал в 1910 году художник Рене Пио после встречи с английским режиссером и сценографом Гордоном Крэгом. Декорация Лучано Дамиани в «Вишневом саде» режиссера Джорджо Стрелера благодаря своей поразительной простоте стала едва ли не лучшим в современном театре примером такого способа работы с пространством. Над белоснежной сценой был натянут широкий, во всю глубину сцены, полупрозрачный занавес, который в разные моменты то спокойно колыхался над героями, то опасно низко опускался над ними, то посыпал их сухими листьями. Декорация превращалась в партнера актеров, а сами они по-своему отражались в очень немногочисленных предметах на сцене вроде извлеченных из столетнего шкафа детских игрушек. Пластическая партитура Раневской, которую у Стрелера играла актриса Валентина Кортезе, строилась на вращении, и с этим движением рифмовался запущенный Гаевым волчок, минуту вращавшийся и затем как-то внезапно слетавший со своей оси.
1981 год. Театр «Буфф-дю-Нор», Париж. Режиссер — Питер Брук


«Вишневый сад» Питера Брука в театре «Буфф-дю-Нор». 1981 год © Nicolas Treatt / archivesnicolastreatt.net
В своих лекциях по истории литературы Наум Берковский называл подтекст языком врагов, а его появление в драме связывал с меняющимися взаимоотношениями людей начала ХIX века. В «Вишневом саде» Питера Брука у персонажей нет врагов среди друг друга. Не было их в пьесе и у режиссера. И подтекст в чеховском произведении вдруг радикально менял свое качество, переставал быть способом сокрытия, но, наоборот, превращался в средство открывать друг другу то, что невозможно передать с помощью слов. Разыгранный практически без декораций (стены и пол старого парижского театра «Буфф-дю-Нор» были покрыты коврами), этот спектакль был тесно связан с послевоенной литературой: «Чехов пишет чрезвычайно сжато, используя минимум слов, и его манера письма напоминает Пинтера или Беккета, — рассказывал Брук в одном из интервью. — У Чехова, как и у них, играет роль композиция, ритм, чисто театральная поэзия единственно точного слова, произнесенного тогда и так, как нужно». В ряду бесчисленных, по сей день возникающих интерпретаций «Вишневого сада» как драмы абсурда самое, может быть, необычное в бруковском спектакле заключалось именно в том, что, прочитанный через Беккета и Пинтера, его Чехов звучал по-новому, но оставался самим собой.
2003 год. Международный фонд К. С. Станиславского и театр Meno Fortas, Вильнюс. Режиссер — Эймунтас Някрошюс


Спектакль «Вишневый сад» Эймунтаса Някрошюса. Фестиваль «Золотая маска». Москва, 2004 год
Евгений Миронов в роли Лопахина в спектакле «Вишневый сад» Эймунтаса Някрошюса. Фестиваль «Золотая маска». Москва, 2004 год © Дмитрий Коробейников / РИА «Новости»
Первое, что видели зрители на сцене, — брошенные друг на друга предметы одежды обитателей дома, стоящие позади низкие колонны, непонятно откуда взявшиеся два обруча: вроде бы усадьбу, но как будто заново собранную из почти случайных предметов. В этом «Вишневом саде» были отсылки к Стрелеру, но не было и следа поэтичности итальянского чеховского спектакля. Однако сам спектакль Някрошюса был построен скорее по законам поэтического текста. Шесть часов, которые он шел, связи между вещами, жестами (как всегда у Някрошюса, необыкновенно насыщенной пластической партитуры), звуками (вроде невыносимо громкого крика ласточек) и музыкой, неожиданными животными параллелями героев — эти связи умножались с необычайной скоростью, пронизывая все уровни. «Мрачная и великолепная громада», — писал театровед Павел Марков о мейерхольдовском «Ревизоре», и именно таким осталось впечатление от спектакля литовского режиссера, поставленного вместе с московскими артистами к столетию чеховской
пьесы.
Прощание
Этот «Вишнёвый сад», идущий под трагические, скорее даже погребальные мелодии (основная мелодия, которая звучит в прологе и в финале, и которую я бы назвал мелодией Фирса – чем-то созвучна известной мелодии Альбинони), представляет собой спектакль-прощание. Прощание с вишнёвым садом превращается в прощание с жизнью. Спектакль посвящён фундаментальному закону бытия – конечности всего сущего, конечности жизни. Две тумбы, маячащие на сцене в первых двух актах во весь рост, и ушедшие под землю в последних двух – это словно могильные памятники чьим то жизням. Как и флюгеры, висящие перед задником, так и ни разу не завертевшиеся, что это? – символы чьих то прошедших жизней, или каббалистические знаки? С прощания, с «погребения» и начинается встреча с Раневской – её парижская жизнь окончена, вот-вот окончится жизнь в вишнёвом саду, она лежит на кушетке, как покойница, лицо накрыто чёрной вуалью, к ней подходят её родственники и слуги, кто-то, будто в гроб, кладёт цветы ей на грудь.
Наивный Петя что-то пытается говорить про новую жизнь, но зрители и слушатели его на сцене встречают его речи смехом, они знают, что ВСЁ кончается, в том числе и всё новое, в том числе и жизнь. Чей-то конец – есть чьё то начало, но Лопахина и его начало не радует – горечь утраты побеждает сладость новизны.
Някрошюс
Режиссёр насытил спектакль таким количеством метафор и символов, что спектакль напоминает пересыщенный раствор, который просто растворяет, сминает зрителя, как птичий свист и звон в ушах Лопахина, и в котором некоторые образы (например, топор, выброшенный из-за кулисы на сцену при прощании Раневской и Гаева за кулисами с народом) выпадают в осадок. Актёры, даже такие великолепные, как Миронов, Петренко и др. – всего лишь ноты в театральной «музыке», которую строит Някрошюс. Фирс, этот символ Уходящей натуры, в этой «музыке» Някрошюса держит на себе мелодию Прощания, как басовый барабан, который таскают герои из 3-го в 4-й акт, держит ритм в оркестре.
Раневская
В пьесе возраст указан только у трёх персонажей - Аня, Варя, Фирс. Я видел спектакли с молодыми красивыми Раневскими, но они были о другом. Някрошюсу в его спектакле-прощании нужна была именно такая Раневская - потерянная, с лицом, как выжатый лимон, и чтобы играла её актриса, которая много-много лет назад была красавицей (вспомним её неотразимую Адельму в «Принцессе Турандот») - как и сама Любовь Андреевна, а ныне... она возлежит в чёрном гробу, простите оговорился, на чёрной кушетке, как засохший, увядший цветок. И эта, ушедшая в небытие времени женская красота исполнительницы, которая ещё мерцает в памяти или подсознании зрителя, безусловно, используется режиссёром, как ещё одна краска в его спектакле. Очень сильная характеристика этой Раневской - то, как она пьёт кофе - прямо из кофейника, вырывая его из рук слуги, так принимают дозу запущенные наркоманы. Изжёванный и истёртый жизнью человек.
Гаев
Для меня это одна из самых значимых фигур спектакля. Большинство героев спектакля искренни, как дети. И в этом детском вишнёвом саду самый младший «ребёнок» – Гаев, на нём и береточка какая-то надета детсадовкая, и живёт он, как мальчик 5-6 лет, в собственном придуманном виртуальном мире, где можно поговорить с другом - многоуважаемым шкафом, и старый гнилой сад нельзя срубить только потому, что он видел его на картинке в энциклопедии. Делёж и поедание конфеток с девчонками – это самая милая и трогательная сцена спектакля, а его фраза – «я человек 80-х годов» была просто встречена аплодисментами, ибо все зрители в зале сразу же кожей вспомнили в какие «детские» игры они играли в 80-е, за которыми сразу же наступили «взрослые» 90-е. Гаев есть в каждом человеке, как в каждом присутствует ребёнок, которым он когда-то был. «Жёлтые в середину» - это всего лишь тонкая маска, которой он прикрывает себя и свой мир от «хамов». Гаев-Ильин не боится быть искренним, его выступления, прежде всего, предельно откровенны, лишены пафоса, он говорит в них существенное для себя, жаль, что его эти взрослые всё время прерывают. Но когда он выходит исповедоваться к рампе, видишь что у этого мальчика лицо старика – мешки под грустными глазами, оно истёрто жизнью почти до дыр. Меня потряс его монолог из 2-го акта, который, к сожалению, не дали ему произнести до конца: «О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...» В этих пронзительных словах для меня заключена квинтэссенция някрошюсовского спектакля, спектакля о Бытии и о Смерти.
Финал
Все герои прощаются друг с другом, как прощаются, расставаясь навсегда. «Прощай, Вишнёвый сад! Прощай Жизнь!» Люди уходят за флюгеры и присаживаются там. Выходит Фирс с охапкой сена. «Уехали! А меня забыли!» Из сена достаёт пучок зелёной травы, жуёт её. «Жизнь прошла, словно и не жил! Эх, ты – недотёпа!» Эти слова адресованы каждому обитателю Вишнёвого Сада под названием Жизнь. Освещается задник, все герои превратились в зайчиков (в которых играли в 3-м акте), торчат лишь их белые ушки, да освещаются мёртвые, неподвижные флюгеры. Звучат громкие «бильярдные» хлопки-выстрелы – точки ухода человечков-зайчиков в небытие. Всё кончено. Занавес.
Евгений очень не любит интервью: мало ли как перетасуют в газете вопросы, подкорректируют смысл сказанного, выставив тебя «идиотом». Точность сказанного для него важна: за словами стоят поступки. А по поступкам людей судят...
Вот Мышкина можно судить по поступкам. Когда он говорит, он объясняет свою позицию. С ним можно соглашаться или нет. Но когда Ганя ударил свою сестру, - он мог бы отвернуться к окну, но он кидается ее защищать. Поступок (без раздумий, без сомнений, вся физика его в этом!) сразу объясняет человека.
Мы беседовали с Мироновым в Вильнюсе , где три недели жили российские актеры, собранные известным литовским режиссером Эймунтасом Някрошюсом для работы над новой постановкой «Вишневого сада», посвященной 100-летию пьесы Чехова . У Миронова - роль Лопахина . «Нового русского» начала ХХ века, который и обещает вырубить сад...
Репетиции с 10 до 19 часов ежедневно. Но даже за ужином в гостинице (с рестораном на озере) разговоры вращались вокруг работы. Сам свидетель, как потрясающая Максакова произносила несколько раз одну-единственную фразу Раневской, при том так интонационно окрашивая ее, что смысл всякий раз абсолютно менялся. Миронов, по рассказам официанток, мог выскочить из-за стола и что-то изобразить сидящим рядом Гаеву (Владимир Ильин ), Фирсу (Алексей Петренко ) и Раневской...
- Фонд Станиславского и театр Някрошюса собираются удивить Москву новой трактовкой «Вишневого сада». Как вы попали в этот спектакль?
Някрошюс никогда не работал с русскими артистами, поэтому это в принципе открытие. Он всегда работал либо со своей труппой, которая его понимает с полувзгляда, с движения брови, либо с иностранными труппами. А тут русская пьеса и русские артисты. Так что интрига вдвойне.
- Зрителям, конечно, интересен такой контраст: где князь Мышкин - и где прагматик Лопахин! А у вас не было сомнений, когда предложили роль купца Лопахина? Вроде не ваш типаж?
Во-первых, я не признаю амплуа, хотя есть, конечно, какая-то данность от природы, что для кино, думаю, важно. Для театра эти границы лишние абсолютно. Во-вторых, не понимаю, как можно не экспериментировать, имея возможность. В-третьих, я не знаю сам себя, свою планку...
- Почему Някрошюс привез артистов сначала именно в Вильнюс? Нельзя ли было работать сразу в Москве?
Это очень хорошо, что мы оторвались от всех своих дел, от суеты московской. Мы все заняты только одним с утра и до вечера. Он настолько высокую планку поднял!
- А как вам такое: в Интернете я случайно наткнулся на объявление о продаже современного имения «Вишневый сад» в Подмосковье площадью в 120 гектаров за 1 200 000 долларов. Примерно столько в переводе на нынешний курс ваш герой заплатил на торгах, перекупая Вишневый сад у купца Дериганова...
Да, удивили. А почему называется «Вишневый сад»? Это странно, потому что вишневых садов в принципе не бывает... Но если у людей есть такие деньги, значит, в России не все так плохо...
- Кстати, о деньгах. Говорят, вас обворовали во время съемок «Идиота», и Машков - Рогожин, сказал, что украли у вас, а не у него, - потому что не он в роли Мышкина. Как все случилось?
В полпятого утра даже плохо спящий человек начинает засыпать. Так вот, под утро в купе СВ я открыл глаза и увидел спину человека, который лезет в мой кошелек. Когда я ему очень тихо сказал «Стой!», он вдруг ойкнул: «Извините, ради Бога!» - и рванул с огромной скоростью.
В коридоре его ждал товарищ, они вместе удрали. Володя Машков выскочил из своего купе за ними. Вернувшись, сказал: кажется, они из вагона-ресторана. Но доказать было невозможно, да и украли долларов 300... Просто сам факт обиден, хотя у меня крали и по тысяче. Но тут я сам видел вора, поэтому ощущения отвратительные...
Когда москвичи попадут на премьеру?
С 10 по 14 июля на сцене Театрального центра СТД РФ на Страстном, 8-а, состоится премьера нового международного проекта - спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».
Проект осуществляется Международным фондом К. С. Станиславского и театром «Мено Фортас» (Литва ) при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре правительства Москвы .
Режиссер-постановщик - Эймунтас Някрошюс, художник - Надежда Гультяева .
В спектакле заняты: Евгений Миронов (Лопахин), Людмила Максакова (Раневская), Владимир Ильин (Гаев), Алексей Петренко (Фирс), Инга Оболдина (Варя), Юлия Марченко (Аня), Ирина Апексимова (Шарлотта), Игорь Гордин (Петя Трофимов), Иван Агапов (Епиходов ), Сергей Пинегин (Симеонов-Пищик), Анна Яновская (Дуняша), Александр Зыблев (Яша), Илья Исаев (Прохожий), Юлия Свежакова , Ольга Черноок.
Такое не забудешь. Как Гамлет читает «Быть или не быть» под люстрой изо льда, лед плавят свечи, и капли разъедают рубаху принца, словно кислота. Как он босыми ногами стоит на куске льда со вмерзшим кинжалом, и холодно – тебе – до дрожи. Как косо висит над сценой циркулярная пила.
В театре «Гамлетами» принято отмерять поколения. Свой «Гамлет» случается не у всех, но тем, кто взрослел в 1990-е, сказочно повезло – у нас был спектакль Эймунтаса Някрошюса. Он был настоящим хоррором, страстным и страшным, похожим на камеру пыток. Он брал тебя за шиворот и встряхивал так, что эти сцены помнишь двадцать лет спустя – всем телом. Он застревал в глазу осколком льда и перестраивал театральное зрение.
Язык Някрошюса казался многим сложным, полным ребусов и странностей. На самом деле все было почти что с точностью до наоборот. Ставя Шекспира, Някрошюс беспощадно упрощал сюжеты, обрубал второстепенные линии, увольнял побочных персонажей, оставлял от действия голый костяк, фабулу. Спрямлял историю так, чтобы она работала как таран, ломала привычки восприятия, пробивала броню зрительского равнодушия.
Его театр был природен. Его знаменитые метафоры росли как дерево – из одного ствола, ветвясь, переплетаясь, никогда не забывая о корнях. Любой мотив, возникающий в тексте, обретал в режиссуре Някрошюса конкретный, вещный эквивалент – как родовое древо в «Макбете», которое Банко, выходя на сцену, тащил в рюкзаке за спиной. Иногда метафоры поражали именно буквальностью: в «Отелло», говоря про «сто шестьдесят часов», проведенных в ожидании Кассио, его любовница Бианка вынимала из подола и расставляла на стуле десяток будильников.
Он строил театр из основных стихий и элементов: огня, воды, земли, воздуха. И базовой материи сценического действия – этюдов. Копировать эту великую простоту пытались многие, получалось редко. Язык Някрошюса был уникален именно органикой. Его почвой остался литовский хутор, который на подмостках превращался в волшебный остров шекспировского Просперо, где чудеса прорастали из простых физических действий и обыденных сценок. Някрошюс приучил нас, что театр – грубая, но безразмерная вещь. Вынеси на сцену бревно с топором, и довольно: там будет сразу и жизнь, и смерть, и почва, и судьба.
Несмотря на культовый статус (с конца 1970-х на спектакли Някрошюса в Литву ездили со всего СССР), постсоветская Москва приняла его не сразу. Сегодня странно вспоминать, как в середине 1990-х шокировали нашу публику его «Три сестры», в которых углядели и чуждый театральный язык, и враждебные смыслы. Но вскоре оказалось, что именно театр стал тем местом, где Россия и Литва заново нашли много общего, залечили культурный разрыв. В моду вошел «литовский метафоризм», Някрошюс был признан безусловно великим и столь же безусловно своим. Его маленький вильнюсский театр Meno Fortas регулярно привозил к нам премьеры, которые становились здесь событиями. Потом Някрошюса позвали ставить в Москве, и он подарил нам грандиозный «Вишневый сад», а Евгению Миронову – лучшую роль в карьере. О культурном разрыве говорить давно не приходится – сейчас литовские режиссеры возглавляют в Москве два академических театра.

Фотогалерея
В работе с российскими актерами менялся и сам Някрошюс. В «Вишневом саде» он начал обновлять свою мастерскую метафор. Эффектные образы-предметы стали уступать место более частным, рассредоточенным образам-действиям, образам-жестам, которые труднее зафиксировать в памяти, настроенной на моментальный снимок сценической картинки. Пластический язык сделался более разработанным, уделяющим больше внимания мелкой моторике. Этюд превратился в способ психологизации.
Но мы запомним Някрошюса прежде всего невероятно щедрым. В его спектаклях можно было брать любой образ и кричать: смотрите, как здорово! А вот еще! И еще! Но если зритель был не вороной, хватавшей все подряд, а ловцом жемчуга, образы непременно нанизывались на общую нить. И вот в чем было счастье: чувствовать себя ловцом жемчуга.
И даже у тех, кто выбирал всего придирчивей, так много скопилось за годы, что это богатство огромно, волшебно – им можно делиться, и никогда не убудет.